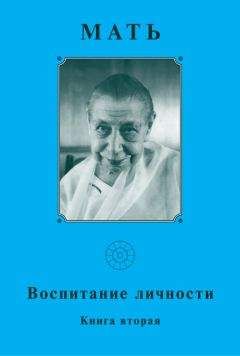Андрис Пуриньш - Не спрашивайте меня ни о чем
— А это мой брат Юрис. Никто в этой шайке не умеет так попусту транжирить время, — рассмеялась Диана.
Он не стал возражать и подошел к шкафу без дверей, достал еще две такие же щербатые кружки, какие были на столе. Я кинул на него быстрый взгляд: заношенные джинсы, порванная рубаха, босой, черная бороденка, как у испанского гранда. Настоящий дон Педро.
Он наливал кофе и говорил:
— Иво, наверно, уже знает мою сестру. Не то я мог бы ее представить ему как самую талантливую удильщицу среди известных мне женщин. Она умеет выловить рыбу в таком пруду, где это не удалось бы никому, кроме нее.
— Преклоняюсь перед Дианой, — сказал я. — Для меня целая проблема выудить хотя бы одну рыбешку там, где другие черпают ведрами. У меня не хватает терпения ждать.
Компания весело рассмеялась. Скайдрите от восторга так пристукнула маленьким кулачком по столу, что подпрыгнули все кружки и электрокофеварка.
Серьезность сохраняла лишь Диана.
— Юрис, я принесла тебе книги, — сказала она.
— Прекрасно!
Он взял сумку и унес ее в другую комнату.
— Иво, я сейчас вернусь, — тихо сказала Диана и поставила передо мной кружечку с кофе. — Не смотри, что у нее такой неказистый вид. Кружка чистая.
Она тоже вошла в соседнюю комнату и плотно прикрыла за собой дверь.
— Некоторые чистоту только напоказ выставляют, — сказала Скайдрите и плотней завернулась в плед. — Чистота для них не внутренняя потребность. Она им нужна только затем, чтобы показать свою утонченность, а другие, мол, свиньи. Да ты пей, Иво, кофе! Не стесняйся!
— Спасибо! — ответил я и поднес кружку к губам. Не хотелось, чтобы они подумали, что считаю их свиньями. Кофе был вполне хорош.
— Вот и ты тоже, Алфонс! — Скайдрите, очевидно, продолжала ранее начатый разговор. — Модерновый роман, авангардистская поэзия. Эти слова в разных вариациях почти не сходят у тебя с языка. Ты хочешь произвести впечатление большого интеллектуала, а из меня сделать последнюю дурочку за то, что я нахожу известную ценность в так называемой «бульварной» литературе.
Алфонс недовольно вздохнул и отмахнулся.
— С тобой вообще бессмысленно затевать разговор!
— Ну вот, а я что сказала? Полюбуйся, Иво! Перед тобой сидят интеллектуал и дурочка, годная лишь на то, чтобы служить Юрису моделью.
— Ты что-нибудь читал из этой бульварной серии? — спросил у меня Алфонс.
— Когда был поменьше, читал, — ответил я. — «Мне уж никогда так не любить», «Нахлебница», потом еще «Господня мельница мелет хоть и долго, да тонко» и «Стрелы амура»… «Брак ненадолго»… остальные позабыл. Все они были напечатаны еще по старой орфографии, в буржуазное время.
— И какую же «известную ценность» ты в них обнаружил? — продолжал он допрашивать.
— Кто его знает… Сперва было интересно. Потом наскучило, потому что сразу знаешь, что произойдет наследующей странице. А от их разговоров о любви просто тошнит — такие они занудные и сентиментальные.
— Вот! — победно воскликнул он. — Теперь уже сидят два интеллектуала и одна дурочка, если тебе нравится так себя называть.
— Ах, мальчики, мальчики! — Она улыбнулась нам как бы с высоты Олимпа. — Слишком вы еще молоды, чтобы понять… Внутренний мир человека для вас пока загадка, которую вы отгадаете еще не скоро…
— А ну тебя! — в отчаянии воскликнул Алфонс. — Лучше пей кофе! Это действительно единственное, что ты умеешь делать интеллектуально.
Однако сам он не мог успокоиться.
— Залезают индивидууму в нутро, хватают «внутренний мир» и выволакивают наружу. Потом изучают, изучают, потрошат каждую клеточку и слагают стихи и романы. Но разве в этом задача искусства? — Вопрос Алфонса был обращен ко мне. — Задача искусства через индивидуума показать время, общество, в котором он живет, обнажить проблемы, существующие в этом обществе, а не вязнуть в мелочах «внутреннего мира», создавая впечатление, будто это единственный объект, где есть еще противоречия, для разрешения которых необходимо привлечь внимание широкой общественности. А актуальные проблемы общества стыдливо обходят; деликатные люди проходят мимо общественной уборной с похабной надписью на двери, про себя ухмыльнутся, но сделают вид, будто ничего нету. Но похабная надпись не исчезнет от того, что на нее не обращают внимания. А спустя некоторое время, когда испишут всю дверь и станет уже нельзя этого не замечать, притащится дворник и дверь покрасит. Вот теперь можно бежать домой, хвататься за перо и смело поднимать проблему: «Похабная надпись на двери уборной». Придумать сюжет и благополучно проблему решить, и конечным результатом будет чистая дверь. А она уже чистая! Всем хорошо, все довольны. Так удобней, спокойней. Ибо, кто знает, начнешь копошиться возле этой двери раньше времени и еще получишь по башке. А что перепачкано где-то еще, опять никто якобы не замечает, поскольку это опять-таки… Лучше уж проявим смелость, отображая ныне чистые двери.
— До чего красно и умно говоришь! — язвительно заметила Скайдрите. — Даже не верится, что в рассуждения пустился зеленый мальчишка. Что ж, ступай домой и пиши про грязные стены туалетов.
— О-о, — простонал Алфонс. — Стоит тебе раскрыть рот, и я уже знаю: раздастся нечто достойное единственно такой… пречистой… Недаром тебя зовут Скайдрите.
— Будешь продолжать хамить — я вылью кофе тебе на голову!
Мне надоело их слушать.
Я встал и подошел к окну.
В море потемневших небес купалась луна и отбирала тело обрывками туч. Ее бледный лик посветлел, и распущенные волосы мерцали звездами.
Я раскрыл окно и закурил. На дворе разрослись какие-то кусты, трава вымахала по колено.
Я улыбнулся луне, она подмигнула в ответ и прикрыла лицо уголком рыжеватого облака. И странно стало вдруг у меня на душе. Она ведь вот так же смотрела в то время, когда тут еще не было ни этого дома, ни заброшенного сада. И она будет улыбаться и щурить глаз, когда уже не будет этой обшарпанной дачи, когда деревья вырастут большие и никто не будет помнить, кто и когда их посадил, когда не будет ни скрипучей калитки на ржавой петле, ни веранды с конкретным числом выбитых стекол, ни шаткой лестницы, ни этой комнаты, у окна которой стою я, ни окна, которое можно раскрыть и посмотреть на мир именно вот с этой точки видения, именно в это время, именно такими глазами, ощутить все именно вот так и понять именно так, и знать именно так… И быть может, здесь раскинется ржаное поле и кто-то, возможно, будет стоять на его краю и любоваться синими васильками, и даже не почувствует, что в некой точке трехмерного пространства над склоненными ветром колосьями ржи кто-то некогда был и исчез, и не ощутит, что мир в некий момент несколько обеднел.
Как сохранить? Быть может, этот миг продолжит существование в мире иных измерений? Не знаю. Но мне очень жаль, что его утратит этот мир. Возможно, я сумел бы описать, рассказать через музыку, передать красками, но какой от этого прок, если каждый воспримет мои слова, мою музыку, мазки моей кисти по-своему? Миг этот не исчезнет до той поры, покуда есть мое «я». И несмотря на то, что никому его не ощутить так, он все же не исчезнет и отзовется эхом в других людях так же, как легкий удар по клавише рояля поколеблет струны остальных клавиш, и что-то им расскажет.
Месяц взял смычок и ударил по золотым струнам. Над сумеречной землей пролилась нежная мелодия, и в крапиве застрекотали кузнечики.
В бледном свете свечей продолжали препираться Скайдрите и Алфонс. Сочный, смеющийся рот Скайдрите возражал, а парень запальчиво отстаивал свою правоту.
Я прохаживался вдоль стен мастерской, к которым были прибиты картины. Дон Педро был, очевидно, так плодовит, что не поспевал добывать рамы для своих картин. Чего там только не было намалевано. И маслом и акварелью. В искусстве я смыслю не очень-то много. Я могу только сказать, нравится мне или нет. И одна акварель мне в самом деле понравилась.
Луг в дымке раннего утра. Небо желтовато-серое. Лиловые вешала для сена. Вдали едва различимые стволы ветел, а листва напиталась влагой и слилась с туманом. Трава зеленовато-серая, словно на нее наброшена паутина. Краски так незаметно переходили из тона в тон, что чудилось — они движутся: казалось, прикоснись к холсту, и краски перемешаются в новых сочетаниях, сероватое небо соскользнет ниже, и запылает белое солнце.
Картина мне понравилась потому, что вызывала во мне уже знакомое настроение. Нечто пережитое ранее. То, что все время дремало во мне неосознанное, а сейчас оказалось на одной волне с акварелью. И тогда я вспомнил то утро, когда много лет назад бежал босиком к солнцу. Луг не был тем лугом, и мгновение не было тем мгновением, поскольку солнца я не видел, по в акварели было предчувствие того момента. Так что же, дон Педро чувствовал так же, как я, или же в тот момент у него сердце билось так же, как у меня тогда, перед чудом, только он не дождался этого чуда и перенес ожидание на холст?