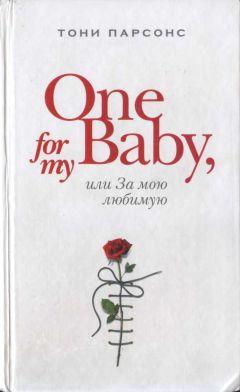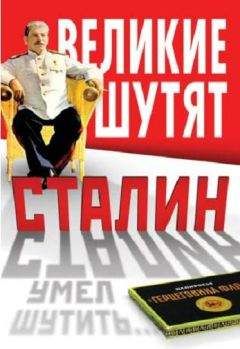Жан д'Ормессон - Бал на похоронах
…Марго ван Гулип уже подавала все признаки усталости. Сколько лет ей сейчас могло быть? Восемьдесят — точно. Может быть, даже девяносто? Нет, девяносто — это слишком. Я поспешно рылся в своих воспоминаниях, как молодая женщина, вернувшаяся после работы принять душ перед выходом в город, нервно роется в своей сумочке в поисках ключей. В каком бы ослеплении от жизни «большого света» я, студент-нормалист, ни был, не могло же ей быть пятьдесят лет тогда, на Патмосе, когда я целовал ее на дороге, идущей вдоль моря? Не могло быть, чтобы эта женщина, держащаяся так прямо, несмотря на печаль и усталость, и вокруг которой еще витали отблески былой красоты… чтобы ей маячила на горизонте ее сотня лет? Я быстро подсчитывал: где-то между 82 и 86… Я подошел к ней, чтобы она могла опереться на мою руку.
— Пожалуйста, — сказал я, — обопритесь на меня.
Она посмотрела на меня — и я вспомнил Патмос.
— Спасибо, мой маленький Жан! — проговорила она.
Нет! Наверное, все-таки восемьдесят восемь… Жерар и Ле Кименек уже пошли искать стул, чтобы усадить ее…
Время… Если и не вечно, потому что время, естественно, не может быть вечностью, то веками и веками оно несет нас в своем потоке, оставаясь самим собой, и разрушает все, что тащило за собой, и то, что умирает, и то, что пока только рождается…
Жерар и Ле Кименек вернулись ни с чем: на кладбище среди могил трудно найти стул. Бешир, как всегда сообразительный и энергичный, уже успел подумать о машине, в которой привез Андре Швейцера, и сейчас подгонял ее сюда. Мы устроили Королеву Марго на заднем сидении и оставили там немного отдохнуть. Казотт и Далла Порта тут же составили ей компанию. Эти двое хорошо знакомы с проблемой времени. Казотт — этакий кочевник эрудиции, специалист по Иннокентию III и Фридриху II, Иерусалимскому королевству и, как ни странно, по древнему Ближнему Востоку, любитель примитивного искусства, как и Ромен. Он изучал время через прошлое, в котором оно скрывается, но через него же и выявляется. Далла Порта — профессор теоретической физики в университете Беркли, имеющий должность в NASA, близкий друг Ромена, считавшего его то гениальным, то полусумасшедшим. Он пытался совместить время и пространство, но по мере того как его исследования все более приближались к истокам и уникальности «большого взрыва», окончательно запутался…
…Хорошо, что Марго сидит пока в машине, она не сможет выдержать на ногах всю церемонию…
…Мириам, то есть Мэг, провела пять или шесть лет со Счастливчиком Лючиано. Она жила то во Франции, то в Соединенных Штатах. У них обоих была своя жизнь за пределами их совместного существования, но шесть-восемь раз в год она обязательно отправлялась сначала на «Иль-де-Франс», затем на «Нормандии» в Америку, чтобы повидаться с ним. Возможно, именно потому что они так часто расставались, они потом встречались с такой радостью. Эта пара была воплощенным образцом верности в неверности. Каждый давал другому то, чего тот не имел: полную свободу и нелегкие обязательства, немного парижского воздуха и авантюрный дух «коза ностра», беззаботность и могущество.
…Тогда в ночном кабаке Мэг сумела завоевать доверие Счастливчика Лючиано (она звала его настоящим именем — Сальваторе) и доверие Мейера Ланского — Мейера Суховлянского, родом из Белоруссии, а они мало кому доверяли. Они рассказали ей о том, что происходило в недрах американской мафии. Аль Капоне держал в руках весь Чикаго и синдикаты «teamsters» и «roofers» — грузовые перевозки и строительство. Счастливчик Лючиано царствовал над нью-йоркскими докерами.
— О! — говорила Мэг со стаканом виски в руке. — Вас, должно быть, немало. Сотни, наверное… или даже тысячи?
Лючиано и Лански со смехом переглянулись.
— Бывает по-разному… — ответил Мейер.
— И от чего это зависит? — спросила Мэг.
— От уровня… — ответил он.
Сами гангстеры — шесть семей, возглавляемых своими «capi», но со временем их количество возросло до двадцати четырех — составляли тысяч десять, а если брать широко — даже тысяч двадцать. Но те, кого они использовали, — наемные убийцы, пособники, исполнители, к которым можно было обратиться в случае необходимости хоть на другом конце страны, — перевалили за сто тысяч. А число тех, кого они держали под своим контролем, — чиновники, безымянные пешки, которые и сами не знали, что мафия манипулирует ими, — число этих доходило до миллиона.
— Вот здорово! — воскликнула Мэг. — И что вы никогда не попадаетесь?
Они рассмеялись еще веселее.
— Мадемуазель, — торжественно разъяснил ей Мейер, — усвойте, что Америка — это демократия и что решающую роль здесь играют деньги. А демократия и деньги всегда находят общий язык. Число тех людей, которых мы держим под контролем, достаточно велико, но еще больше число тех, кого мы покупаем. Каждый день мы покупаем журналистов, лидеров партий, судей, сенаторов, госсекретарей. К тому же, слава богу, в демократическом государстве юстиция не подчиняется властям, она независима, и это еще более облегчает нам дело… Единственно кто нам серьезно гадит — это несколько тысяч парней старика Эдгара Гувера. Он сует свой нос повсюду. Его молодчики из ФБР с маниакальным упорством прослушивают наши разговоры по телефону, которые мы ведем так доверчиво. По счастью, судьи относятся к этому совершенно иначе: они справедливо считают прослушивание телефонных разговоров покушением на права человека и индивидуальные свободы. Мы имеем адвокатов — прекрасных адвокатов. Мы, конечно, дорого оплачиваем их услуги, но они отрабатывают свои деньги с лихвой. Поскольку мы живем в демократическом обществе и имеем деньги, то битва между нами и репрессивными органами оказывается неравной: мы оказываемся намного сильнее этой своры, преследующей и облаивающей нас.
— И еще, — добавил Лючиано, — в демократическом обществе власть, настоящая власть, принадлежит тому, кто располагает информацией. Мы очень хорошо информированы. В своих банковских сейфах мы держим не только доллары. Мы там держим, например, фотографии про запас. Как ты думаешь, что можно увидеть на этих фотографиях?
— Ну, не знаю, — сказала Мэг. — Президента США, целующего Аву Гарднер?
— Не угадала, — объявил Лючиано. — Эдгара Гувера собственной персоной, но переодетого в женское платье и в чулках с подвязками.
— Ну и что из этого? — спросила Мэг.
— А то что в нашей стране такие дела дурно пахнут. Мы, конечно, демократия, здорово подпорченная деньгами, согласен, но при этом с пуританскими нравами. Надо как-то увязывать одно с другим. И мы неплохо с этим справляемся. Гувер знает, что мы знаем, и сидит тихо. И не только из самозащиты: он считает организованную преступность меньшей опасностью для установившегося порядка, который он призван защищать, чем коммунизм. Он рассказывает всем, кто согласен слушать, что мафия — это пустые басни, пугало, придуманное мэрами больших городов, чтобы было на кого свалить промахи в своей работе. Однажды он так и заявил журналистам: «В Америке нет мафии».
— А вообще, — вставил задумчиво Мейер Лански, успевший погрузиться в свои мысли, — при всех противоречиях и проблемах, у нас прекрасное будущее. Счастливчик — итальянец и сицилиец, а я — еврей из Белоруссии. Но прежде всего мы оба американцы. И мы гордимся этим. Всякий там фашизм, нацизм — это зловонные отходы системы, которая изживает себя. Американская же демократия распространится по всему миру. Ты моложе нас и еще застанешь это, малышка. То, что так устраивает нас здесь, постепенно установится повсюду…
— Демократия? — уточнила Мэг. — Права человека? Индивидуальные свободы? Деньги?
— И еще мафия, — добавил Лючиано, поднимая свой стакан…
…— Я чувствую себя уже вполне хорошо, — сказала Мэг. — Я хочу вернуться туда.
Она вышла из машины. Казотт, Далла Порта и она, а за ними мы с Беширом — все вместе мы присоединились к группе, окружавшей Ромена; еще ранее к ней присоединились Жерар и Ле Кименек. Люди в черном, которым помогали Марина и ее дочь, раздавали присутствующим розы, которые надлежало бросить в могилу. Меня охватила тоска, она пришла на смену меланхолии. Как?! Мы почтим тело Ромена лишь слезами и несколькими цветками и потом просто так вернемся домой?! Без единого слова, без пения?! Слова распирали меня. Мне казалось, наверное, самонадеянно, что я сумел бы рассказать о Ромене. Что я сумел бы объяснить, чем он был в нашей жизни, и выразить те чувства, которые он сумел пробудить в нас. И так хотелось бы спеть что-нибудь вокруг него. Мы часто пели вместе еще с тех памятных вечеров на Патмосе. Он сам любил петь и пел прекрасно. Мы могли бы спеть «Magnificat» или «Salve Regina», прочесть цитату из талмуда или суру из Корана, напеть «La Butte rouge», или «Le Temps des cerises», или одну из тех песенок моряков, которые трогали нас до слез даже в счастливые времена молодости. Сделать что-нибудь, что овеяло бы память о Ромене дыханием широких просторов и чьим-нибудь благословением. Хоть что-нибудь, что дало бы возможность чему-то неземному — возможно, самому имени Господа — возвысить нашу печаль…