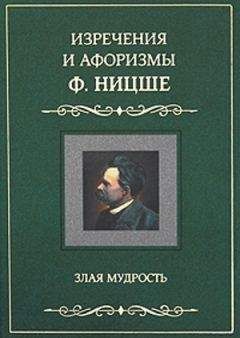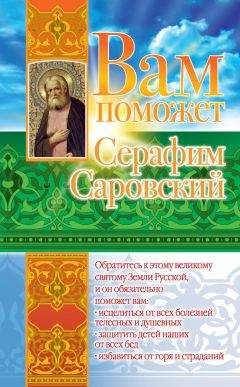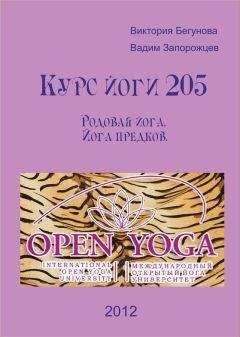Дина Калиновская - Парамон и Аполлинария
Ах, пыльный бархат занавеса! Ах, неторопливое угасание главной люстры! Уже умолк настраивающийся оркестр, уже трижды постучал дирижер палочкой по краю пульта. И вот уже музыка распростерла шелковые крылья над стареньким театром — началось!.. А вот уже она, особенная пауза перед выходной арией героини. Это мгновенное затишье высекает даже напуганность на лицах всех, кто знает подлинную ценность первого явления примы. И взволнованный шепот! И тщательная подготовленность летучих жестов! Ах, уместность танца после сумрачно-гротескного вмешательства гордости и рока:
— Граф! Оставьте меня!
Какое, в сущности, счастье — попасть на оперетту летом под воскресенье в черном платье на узких бретельках и с кавалером, презирающим обман.
— Что тебе во всем этом нравится? — спрашивал он. Сам он просил у искусства суровой и беспощадной правды о несправедливостях, его душа жаждала разоблачений.
— Ах, все! — отвечала она ненатуральным голосом примадонны.
Они сидели в ложе, она впереди, он во втором ряду за нею. Он пришел в театр в костюме и галстуке, она впервые увидела его в пиджаке.
— Слушай, ты жутко красивый!
Он поморщился, он с неудовольствием принимал ее комплименты его внешности, но все же поддался, перекатил под рукавом круглый, как арбуз, великолепный бицепс, чтобы затем, спохватившись, сжать ее почти детское запястье со значением: не хвали за вздор, я красивое никто — и это непоправимо!
— Начинается! — прошептала она сердито.
Он скосил к ней взгляд растерянности, взгляд упущенного времени и малости предстоящего, взгляд утреннего моря, и невзошедшего солнца, и молочного неба, взгляд незрелости, и печали, и просьбы, и покорности.
— Где сама? — строго спросила она о жене.
— Уехала в Бакуриани к родственникам, — был ответ.
— Ах вот оно что! — с обычной между ними ласковой язвительностью воскликнула тихонько она.
Он пожал плечами. Ничего, мол, особенного, и нечего, мол, язвить. Уехала в Бакуриани, у нее там тетка, обыкновенные дела. Значит, человеку так захотелось. Муж с приятельницей смотрят «Марицу», и в этом нет ничего удивительного, подумаешь, психологические сложности!
— Хочешь посмотреть, как я живу? — шепнул он.
— Сегодня? — спросила она шепотом примадонны и взглянула в полутьме ложи из-под накрашенных ресниц.
— Когда же еще! — шепнул он и окутал большой ладонью ее маленькое голое плечо.
— Марица приехала! Марица приехала! — устремляя лица и взоры в левую кулису, восклицала массовка. Пружинно отжимая шаги от поскрипывающего пола, пронес себя по диагонали сцены красивый, как сам чардаш, управляющий Тасилло, и умопомрачительны были его обтягивающие лосины, и короткие сапожки, и галуны, и осанка, и стан, и профиль.
— Безумец! — прошипела она. — Я не войду в семейный дом, когда жена в отлучке! — И тут наступила та самая пауза, великий момент затаенных дыханий перед выходной арией дивы.
И вот уже завтра, воскресенье, горячий полдень. Атланты на той стороне улицы щурились на солнце и вздыхали. Прохожих не было совсем, весь город в такое воскресенье бывает на пляже. Только часовой из мореходного училища время от времени выходил на улицу, смотрел на безоблачное небо из-под сдвинутой на глаза бескозырки, постукивал прикладом винтовки по тротуару и снова исчезал в прохладном вестибюле училища.
— На пляж бы! — сказала со стремянки Серафима.
— Лишь бы болтать! — ответила снизу Маруся.
К вечеру обещали явиться маляры, до их прихода много было всяческой работы. Серафима под самым потолком отдирала от стен мокрые старые обои, Маруся внизу проделывала то же.
— Ты совершенно напрасно звала тетю Ясю, — сказала Серафима. — Нам тут на два часа возни, не больше.
— Меньше читай, тогда мы успеем, — ответила Маруся, она раздражалась, когда Серафима зачитывалась газетами из нижнего слоя оклейки. — Ты убрала чашку? — И Маруся обернулась, проверила и убедилась, что чашки на виду нет.
Тетя Яся покушалась на последнюю бабушкину чашку, и чашку прятали, если тетю Ясю ждали в гости.
Маруся собрала на полу ворох обоев и понесла охапку во двор, там был общий ящик для мусора.
«По уточненным данным, за вчерашние сутки сбито не пятьдесят шесть, а сто два самолета противника. Двадцать два наших самолета не вернулись на свои базы», — читала Серафима. Газеты были сорок первого года, они не отпускали.
«Театр оперетты, воскресенье днем — „Дороги к счастью“, вечером — „Марица“. Цены на билеты снижены на пятьдесят процентов». Здесь были театральные объявления времен бомбежек и обстрелов.
— Она еще не пришла? — спросила Маруся, вернувшись и отряхиваясь.
— Ее нет.
Когда-то их было полдюжины — с коровой и теленочком, с лошадью и жеребеночком, с гусыней и гусятами, с курицей и цыплятами, с козой и козлятами и эта, что осталась цела, со свиньей и поросятами. Тете Ясе она не давала покоя, чудом уцелевшая небольшая фаянсовая чашка с ручкой бубликом, загнутыми внутрь краями и старательной картинкой на дне.
— Дитя тротуаров! К обеду явится как миленькая! — заворчала Маруся.
Тетя Яся жила с дочерью Нелей возле вокзала, неблизко. Однако тетя Яся трамваем никогда не пользовалась, а ходила пешком, и стоило полюбоваться ею, когда она шла, искательно присогнувшись. Тетя Яся искала деньги. Тетя Яся их находила. Тетя Яся служила раньше когда-то курьером на скудной, конечно, зарплате, и нахождение денег на улице сделалось привычкой ее и призванием. Куда бы она ни направлялась, она видела только землю. И ни одна монета, оброненная, может быть, даже позавчера, не оставалась без владельца, если тут прошла тетя Яся. «Деньги валяются под ногами!» — был ее экономический лозунг, и буквальность его подтверждалась ею чуть ли не на каждом шагу.
Она знала места распространения медных монет и монет никелевых.
Однако бывали и купюры.
Маруся смеялась, Серафима нисколько.
— Дитя тротуаров! — придумала Маруся.
— Ты ничего не понимаешь! — возражала Серафима.
— Лучше бы она научилась зарабатывать как следует! — философствовала Маруся.
— Чем бы тогда она отличалась от тебя?
— Не вижу смысла в том, чтобы кто-нибудь от меня отличался, не вижу резона! Я плохая? — говорила Маруся, и они смеялись.
— Ты молодец у нас! — честно говорила Серафима.
— А что — нет?
— Еще как — да!
Особенно теперь, когда они поменяли квартиру, Маруся имела основания собой гордиться.
— Не читай, давай скорее закончим, вдруг они (маляры) придут раньше, чем собирались! — торопила она и трясла стремянку, на которой читающая Серафима начинала от тряски визжать. — Не читай! Некогда!
— Ииии! — визжала Серафима.
Обмен с шестью промежуточными участниками был выношен Марусей как мечта в течение всех двенадцати послевоенных лет и вот был осуществлен наконец, хотя казался невероятным — никто из участников не был в нем особенно заинтересован, никто, кроме истовой Маруси. Маруся ликовала. Всю убедительность, на которую она была способна, которая, вполне может быть, была ей отпущена на целую жизнь, Маруся вытратила, вероятно, на уговоры партнеров. Все сбережения были израсходованы в поддержку убеждений, и продан бабушкин ковер со слонами и Марусино вдовье обручальное кольцо. И вот они переехали из небольшой, но отдельной квартиры, хорошей, но чужой, в свою довоенную, с соседями, с прежними довоенными соседями. И вот они уже обдирают обои, украсившие жизнь того страшного человека, который не впустил их домой, когда они вернулись из эвакуации осиротевшими. Это была Марусина победа.
— Сейчас я тебе скажу одну вещь, — объявила снизу Маруся, поднятые к Серафиме глаза горели.
— Ну? — сказала Серафима.
— Не нукай.
Маруся прислонила к стене дворовую метлу, ею она смачивала из ведра стены, присела на валик дивана, застеленный, как вся мебель, газетами, стряхнула скорлупки штукатурки, насыпавшиеся на волосы, на чистый ее пробор, на только начавшую седеть голову, положила руки на колени и сказала тихо, прислушиваясь к собственным словам и собственным новым чувствам:
— Эти обои, — сказала она, — мы с папой купили перед самой войной на Привозе против зоосада! Я только сейчас их узнала. Я помню, мы спорили из-за бордюра: папа хотел широкий, а я настояла на золотом.
— Ты шутишь?! — воскликнула Серафима шепотом.
— Нет. Я только сейчас вспомнила. Они пролежали в чулане, и этот их поклеил, когда вселился. — Маруся закусила губу и затрещала пальцами от невозможности отомстить.
— Невероятно!
Как в детстве со шкафа в кровать, как разрешал когда-то папа, двадцатидвухлетняя уже Серафима спрыгнула к матери со стремянки прямо на диван. Зашуршали смятые газеты, застонал могучий диван.
— Невозможно, мама! Год мы здесь живем, а ты только сейчас их узнала?!