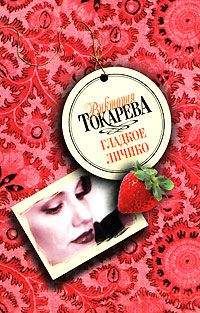Владимир Березин - Свидетель
— В тот год, когда умер Тито, — продолжал югослав, — я всё понял. Начинается страшное, и вот оно началось. Сначала постепенно, с Косово, потом дальше. Эта беда всегда приходит неспешно, кажется, всегда её можно остановить, оправдаться, договориться.
Но уже этого сделать нельзя, ничего нельзя исправить.
Про албанцев из Косово, например, все забыли.
А начинается всё даже смешно, с анекдотов, потом закрывают национальные школы, стреляют по церквям и мечетям. Драку начинают разнимать, но всё без толку.
И внезапно все вокруг понимают, что этого не остановить.
У нас ходит история о том, как на переговорах по демаркации хорват Силайджич сказал, что не отдаст сербам какой-то город.
Ему резко заметили, что граница согласована — и с ним же.
— Э, — сказал Силайджич, — сначала я не принял во внимание, что пять тысяч моих лучших солдат родом оттуда. Если отдать вам это место, то произойдёт переворот, и война продолжится.
Югослав пересказал этот почти анекдот и печально заметил:
— Министры уже не в силах ничего сделать. Это мне пытался объяснить мой дед и пытался объяснить отец, а они были не последними людьми. Мой дед воевал в Первом пролетарском корпусе под Дрваром — вместе с Тито. До войны он был моряком, водил по Ядрану суда. Это сложно, береговая линия сильно изрезана, много рифов. Но мой дед не ошибался. Он ошибся лишь потом, после войны его сняли с партийной работы и посадили. Отсидев, дед снова стал моряком и глядел в чистое море. У нас, знаете, особенно сильное испарение воды, поэтому при спокойной воде видно метров на шестьдесят-семьдесят. Я всё хотел понять, в чём он ошибся, поэтому стал заниматься политической историей, её символами.
Общество мыслит символами — фотографиями и репортажами, это отметил ещё Барт. Кстати, как вы относитесь к персональной и политической корректности?
Это было совершенно некстати, к PC я не относился никак. Плевать я на неё хотел, на проблему этой корректности, но это было грубо и невежливо, и я промямлил что-то. К тому же я заметил, что мой собеседник навеселе, даже не просто навеселе, он был давно и привычно пьян, но умудрялся, почти не глядя, хватать очередной бокал с проносимого мимо подноса. Не было мне дела, откуда он взялся, больше всех других приглашённых он был нужен мне, и я слушал его сосредоточенно и внимательно, сам представляя в мыслях его страну, которую так любил и историю которой учил тоже. Я любил горные очи — как их называли в каждом путеводителе — ледниковых озёр, которых никогда не видел, и Охридское озеро, красную землю, остающуюся влажной даже в засуху, Динарское нагорье, лежащее между морем и реками, начало Родопских гор у Белграда и сухой белый известняк на берегах Адриатики. Я любил людей этой исчезнувшей страны, и мне было всё равно, ходили они в чёрных горских шапочках, похожих на сванские, или в рыбацких шляпах с узкими полями. Мне было безразлично, носили их жёны мусульманские платки или короткие юбки, какова была их партийная или религиозная принадлежность. Мне было одинаково хорошо смотреть на знаменитые скорбные фигуры Мештровича и улицы Загреба или Сплита.
И я видел их сотни раз на фотографиях да в учебных фильмах. Потом я учил космоснимки и, казалось, узнавал всё — повороты дорог, мосты и перекрёстки.
Но мы говорили об истории, истории вообще, и, отчего-то о Древней Греции, о вечно плакавших греках, не считавших зазорным плакать вечером, прощаясь, чтобы потом встретиться утром.
Но разговор неожиданно вернулся к Тито и другой Греции, современной и легко представляемой.
Мой собеседник рассказал, что в июле 1949 года, когда бои между греческой повстанческой армией и правительственными войсками велись на югославской территории, югославы поддерживали повстанцев. В середине августа, напротив, Демократическая армия Греции оказалась между двух огней. Её били и войска правительства, и югославская армия, потому что в феврале югославское правительство договорилось с греческим. Я опять вспомнил трёпаные журналы на старой даче: «Кровавый палач народов Югославии — Тито предоставил греческим монархо-фашистам возможность совершать неожиданные нападения на позиции ДАГ, с тыла через югославскую территорию». Чуть ли не миллион беженцев двинулся по горным перевалам, но сколько из них перебралось через северную границу — неизвестно.
Это неизвестная война, и про неё давно забыли.
Слушая его, я представил, как шли люди в горах, а их прижимала в ущельях авиация и молотила сверху — без разбора. Хорошо хоть то, что военных вертолётов ещё не было.
А ещё я вспомнил девяносто второй год в Абхазии, то, как на разминировании к северу от Сухуми я наткнулся на странное место в горах.
Мы поднимались от мутного горного озера, чьи берега были покрыты глиной. Вода в озере была действительно мутной, на привале мы сварили чай, но глина, растворённая в воде, вязала рот, и я с другом пошёл искать ручей.
Через час подъёма мы свернули в ложбину, уже слыша журчание воды, и тут я оказался в этом месте.
У меня уже было чутьё на мины, сперва их ставили неумело, и можно было по выцветшему квадрату дёрна, по блеснувшей на солнце мирной, совсем не военной, проволоке или по другим приметам заметить опасность. Попадались даже невесть откуда взявшиеся немецкие натяжные противопехотные мины. Они были набиты стальными шариками, которые разлетались в стороны, а вверх не летело ничего. Послевоенные мальчишки подпрыгивали над ними в момент взрыва и оставались целы. Мне рассказывали об этой весёлой игре, но никогда у меня не возникало желания попробовать. Моё детство было другим.
Меня только занимало, как и кто хранил немецкие мины полвека.
А ещё попадались на дорогах жёлтые ребристые «итальянки». Больше всего было своих, родных, сделанных на украинских и русских заводах, но от этого они не становились менее опасными. Что-то отвратительное есть в том, что страна делает то оружие, которое потом выкашивает её население. Оружие, которое делает само население, всё-таки менее совершенно. Самодельные мины не всегда срабатывают.
Однако это была теория. Перед нами появилась огромная поляна, залитая солнцем и наполненная неизвестной опасностью. Не блестела натяжная нить, не желтело пятно умершей травы. Я не видел ничего, всё так же шумел ветер в листве, палило солнце, невдалеке жил ручей, но что-то было, было всё же там необычное.
Тревога передалась напарнику, и он перекинул автомат на грудь.
Медленно мы двигались по склону холма, мимо диких яблонь, мимо странных кустов, похожих на уродливый виноград. И почва была странной, с неравномерно росшей травой. Чудна была эта местность, и оттого — страшна.
Ни слова не говоря, мы повернули назад и шли ещё час до чистой воды.
Несколько дней спустя сухумский армянин, спасавшийся от войны в своём горном доме, рассказал мне, что на берегу горного ручья, а тогда — речки, стояла греческая деревня. Греков депортировали в сороковых, дома разграбили, и вот это место пусто.
Югослав рассказывал дальше про бойцов ЭААС и про их стычки с англичанами в 1944-м, про незнаменитую греческую войну 1949 года.
«Все войны — незнаменитые», — думал я.
В ту ночь мне снова приснился Геворг. В этом сне он был радостен по какой-то своей неземной причине, будто хотел рассказать мне о чём-то хорошем, но решил подождать.
А я сидел перед ним на камне, заполняя бессмысленную ведомость, где в графе «безвозвратные потери» надо было нарисовать единичку. Эта единичка и была Геворг, мой друг.
Но отчего-то я спрашивал:
— А надо писать о том, что у «Шилки», которую зажгли тогда вертолёты, был калибр стволов двадцать три миллиметра? А про сбор клюквы надо?
— Надо, — отвечал Геворг, — надо писать всё, ведь ты — свидетель.
— А про трубы для скважин?
— И про это надо, не беда, если твой рассказ будет бессвязным, главное — пусть он будет точным. Мелкие события образуют жизнь, они, только они — причина всего: страданий, любви, войн и переворотов.
Вспоминая этот сон на следующий день, я переносил на бумагу эти мелкие события, и они напоминали мне ноты в неведомой партитуре, они множились, как те случайные музыкальные фразы, которые извлекали московские и украинские нищие из своих аккордеонов, которые издавал латиноамериканский контрабас на Арбате, топот и вскрики на столичной улице в маленькой республике, где старики пляшут, взмахивая кинжалами.
Я писал об этом письмо Гусеву, потому что мне хотелось сказать хоть кому-то особую правду о войне, где нет правых, а виноваты все. И вот мировое сообщество наваливается на кого-то одного, а обыватель рад, в свою очередь, потому что ему не очень хотелось самому решать — кого надо ненавидеть. А если кто-то норовит заступиться, то неминуемо попадает в политическую номенклатуру белых или чёрных, красных или коричневых и далее по всем цветам спектра. И заступаться не хочется — уж больно нехороши те, кто заступается вместе с тобой.