Анатолий Макаров - Человек с аккордеоном
Май стоял изумительный, жаркий, и в то же самое время свежий, в раскрытые настежь окна накатывали волны тепла, пахнущего цветением, вскопанной землей, политым и высыхающим асфальтом.
Дядя подумал, что с самой юности, даже не с юности, а с отрочества не переживал он так полно и страстно весну. А ведь сколько раз — пять, десять, пятнадцать лет назад — пытался он вернуть это ощущение, это опьянение жизнью, мгновенное, не поддающееся логическому осмыслению, — оно не возвращалось, а если и возвращалось на секунду, то тут же ускользало, И вот теперь оно неожиданно возвратилось, весна опять кружила ему голову, томила его и сладостно мучила, он вновь упивался ею: тогда в предощущении начала, теперь в предощущении конца.
Он смотрел на свои руки, исхудавшие, истаявшие, как свеча, и чувствовал невероятную, режущую жалость к своему телу, к своей убывающей, как талая вода, плоти, к ничтожной своей физической оболочке. Душу не было жалко — души болезнь еще не коснулась, душа сделалась даже зорче и проникновенней. Она парила теперь и видела с мудрой трезвостью настоящую цену всем земным вещам. Душа поражала дядю своею высокой проницательной мудростью. Ей открылись такие высоты и глубины, о которых он и не подозревал раньше. Он не подозревал, например, что кусок высокого синего неба, видимый в окно, если смотреть на него неотрывно, дает ощущение полета, и полной свободы, и отрешенности от расчетливых и корыстных чувств. Каждый день небо было безоблачным и синим, каждый день дядя глядел в него и думал о нем, как о будущем своем пристанище.
Ему вдруг показалось, что если он запоет, то преодолеет страх, и земное притяжение тоже, и прямо сейчас сможет дотянуться до высокого и бездонного неба.
Когда он оторвал взгляд от небесной сини, то увидел, что на табуретке рядом с его постелью сидит Аркаша Карасев. Постаревший, с сединой в русых волосах, с морщинами, изрезавшими сухое лицо, и все же мало изменившийся, потому что ни седина, ни морщины не тронули сути. А глаза Аркаши, неистовые, почти белые, ничем не изменились, только вот смотрели сейчас непривычно растерянно и недоуменно.
— Что, друг Аркадий, — спросил дядя Митя, — не узнаешь?
— Почему это не узнаю? — улыбнулся Аркадий, сверкнув грубой золотой коронкой. — Ты что думаешь, таким красавцем стал, что тебя и узнать невозможно!
— Да, похоже на то. Похоже, что меня теперь разве что господь бог узнает. Если, конечно, меня к нему допустят.
— Это ты только что придумал, для меня специально или уже давно? — Аркадий опять насмешливо сверкнул зубом. — У меня, Митя, рука легкая. Кого я отходил, того смерть до ста лет не возьмет. У меня вон теща, да я тебе про нее рассказывал, вроде тебя, на тот свет собралась — врачей гонит да и бабок знахарок тоже, у нас под Горьким они еще попадаются в деревнях. Меня-то не было дома, я в командировке был, в этом, в Ираке, оборудование им там монтировал, приезжаю — привет, хоть сейчас вместо встречи за гробом иди. Я говорю: «Мать, ты что? — я говорю. — Тебе подарков притаранил три чемодана, не считая тех, которые малой скоростью следуют. Я денег на машину привез, а ты помирать собралась. Стыдно, — говорю, — и глупо. Что, — я говорю, — по райским кущам тебя возить буду?» Поехал в Горький, нашел там одного еврея Игоря Моисеевича — вот такой специалист! Он мне тещу в две недели поднял. Но сказал, что моя психологическая, эта, как ее, терапия тоже помогла. А ты говоришь! Кто тебя в Вене на главной улице в медсанбат нес? Аркадий Карасев, Советский Союз. А в госпиталь тебе кто фисгармонию доставил, когда ты совсем в тоску ударился? Опять же Аркадий Карасев, то есть я. Я и здесь тебя подыму. Наведу тут у вас порядок.
Дядя Митя ничего не отвечал, он молча смотрел на Аркашу, и под этим взглядом прямо на глазах таяла самоуверенная Аркашина веселость.
— Может, выпьешь, Митя? — робко спросил Аркадий и достал из внутреннего кармана пиджака четвертинку. Дядя Митя покачал головой.
— Я и кефир уже не могу. А ты выпей, Аркаша, выпей за всех ребят, кого война не догнала. Меня, она, как видишь, достала. Я, когда из госпиталя выписывался, думал, оторвался от нее на повороте. Думал, поживем еще, Митя, подумаешь, железки в груди остались — большое дело, что в груди, что на груди медали, — железо оно полезное. В яблоках много железа. Только видишь, какая вышла польза… Ты выпей, Аркаша, с чувством выпей, а я на тебя посмотрю. Я уже научился — на что внимательно смотрю, тем и обладаю.
Аркадий вылил всю водку в тонкий стакан и посмотрел внимательно на дядю, словно прощался с ним, словно желал показать, как свято чтит он его просьбу, а потом медленно, с тягучим удовольствием выпил горькую, то ли из пшеницы, то ли из дерева добытую влагу.
Он пил, запрокинув голову, а слезы заливали ему лицо, он думал, что сможет их остановить, но не смог, и потому сделал вид, что закашлялся от водки, поперхнулся ею и, значит, имеет полное право закрыть лицо полой наброшенного на плечи белого халата.
— Не надо, Аркаша, — сказал дядя, — какой смысл? Я ни о чем не жалею. Все у меня было: были у меня друзья, и успех у меня был такой, за который ста лет жизни не жалко, и женщина меня любила, хоть и недолго… Все было, грех жаловаться. Я вот только боюсь — ты не подумай, что это самомнение или самоуверенность маразматическая, как бы это сказать… людей я мало радовал… Понимаешь, мне ведь дар был такой дан — от бога ли, от судьбы, от России, — понимай, как хочешь, но я умел людей из мрака вытаскивать, из усталости, из безнадежности, из отчаяния… Самого себя не могу, а других мог… Так почему же я почти не занимался этим? Ведь это мое прямое дело! Я же для этого на свет родился, как другие для того, чтобы в космос летать или в футбол играть. Я же счастье мог приносить — не смейся — мог! Своими глазами видел! А кого я осчастливил? Кому помог? Обидно, Аркаша. И несправедливо. — Он замолчал, потому что ему трудно было говорить, но через минуту снова приподнялся на подушке. На бледных, бескровных его губах запеклась слюна, глаза горели. Он вновь заговорил — сдавленным, горловым шепотом: — Ты только не подумай, что это бред, Аркаша. У меня навязчивая идея появилась. Мне все кажется, что, если бы я перед всеми этими людьми выступил, перед всеми больными — если бы я вышел как полагается, в белой рубашечке, в костюме, с аккордеоном, который ты мне подарил, я бы им такое сыграл, что они бы отсюда выбрались, выкарабкались бы, понимаешь… А мне уж тогда ничего не надо.
— Ты успокойся, успокойся, Митя. — Водка все-таки подействовала на Аркадия, и он вновь сделался благодушен.
— Я спокоен, ты не волнуйся, — ответил дядя, — я только всерьез надеюсь, что мне удастся выступить.
— Ну и выступишь, — громко, словно не в больнице, а где-нибудь в тесной мужской компании, сказал Аркадий. — Раз веришь, значит, выступишь. Я тоже верю — я тут в одном журнале, знаешь, что вычитал? Что больных замораживать будут. Заморозят тебя, скажем, лет на двадцать, за это время твою болезнь вдоль и поперек изучат, все средства от нее найдут, разморозят тебя, и привет, ты через две недели как огурчик. В мире перемены — прогресс, снижение цен, — а ты будто заново родился, в более благоприятные времена. Одно неудобство — от моды очень отстанешь. Будешь смущаться. Но ничего, тут приспособиться пара пустяков. Готовься, Митя, к выступлению. Я тебе говорю — готовься.
Начался обход, и Аркашу поторопили. Он смущенно посмотрел на чопорных, как ему показалось, медиков, сестра почти подтолкнула его к выходу, на пороге он обернулся к дяде и крикнул, опять забыв, где он находится: «Готовься, Митя!»
Профессор, который сидел в этот момент возле дядиной постели, удивленно поднял бровь.
— Совершенно справедливо, — сказал он, — готовьтесь: в начале той недели — операция.
Во вторник, когда за дядей Митей пришли санитары, он попросил зеркало, достал из-под подушки свою старую алюминиевую расческу и тщательно пригладил ею остатки своих редких мягких волос.
***Вечером разразилась гроза. Небо внезапно сделалось лимонно-желтым — если бы это произошло несколькими годами раньше, народ бы наверняка решил, что началась атомная война, таким ненатуральным, небывалым стал небосвод. Потом промчался шквал: зазвенели разбитые оконные стекла, покатились с гулким уханьем перевернутые урны, опрокинутые афишные щиты то взмывали, неуловимо напоминая самые первые наивные самолеты, то плашмя шлепались на асфальт со звуком, похожим на усиленный во сто крат щелчок карты, легшей на деревянный дворовый стол. Крупные, как чайные розетки, капли застучали по двору, ослепительно и зло, с сухим лабораторным треском сверкнула молния, гром грохотал с такой силой, будто где-то совсем рядом рвались пороховые склады.
Дождь на мгновение перестал, а потом хлынул сплошной стеной, «проливным потоком», как пелось в одной песне из дядиного репертуара, вода бурлила, вскипала, шипела, земли не стало видно от взрывов миллиона брызг — такой дождь возвращает горожанам утраченное чувство природы и ее стихий, он проносится не только по улицам, но и по закоулкам человеческой души, на его стремительной воде выплывают из потаенных глубин запечатленные, но неосмысленные изумительные картины раннего детства и такого же огромного, всеобъемлющего шумного дождя. Вдруг возникают в перспективе улицы чуть наклонившиеся набок силуэты двухэтажных троллейбусов, и бурун воды, мощный, как морская волна, несется вниз по переулку навстречу такому же буруну, несущемуся по переулку с другой стороны улицы, и ноги, да, да, ноги, подошвы, пятки, икры сами по себе в силу атавистической остаточной памяти начинают ощущать плеск дождевой воды, и глубину внезапных луж, и холод выстуженного стремительным потоком булыжника.

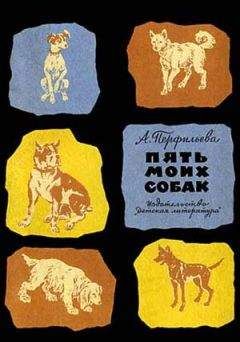


![Светлана Чистякова - Наследники Падших Книга вторая Трудно признать [CИ]](/uploads/posts/books/3156/3156.jpg)