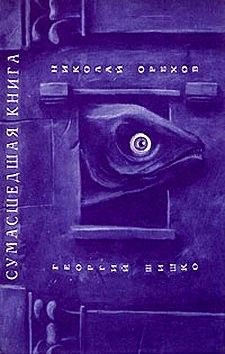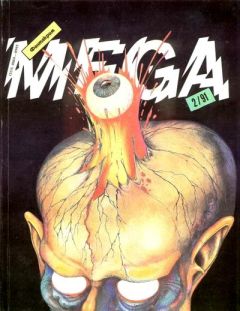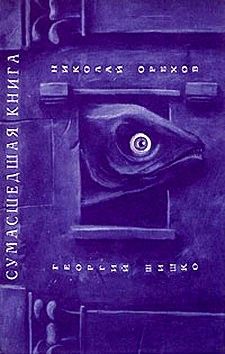Юрий Герт - Лабиринт
Прежде чем Варя успела ответить, все головы повернулись к ней, и она поднялась — медленно, неуверенно, вся как будто высвеченная прожекторами — сухонькая, узенькая, в черном жакете, и проволочно-жесткая косичка, выпав из-за уха, смешно торчала над прямым, острым плечом, по которому змеилась распустившаяся темно-зеленая ленточка. Но — должно быть, последним напряжением воли вздернув свой утиный носик — она сказала:
— Нет, Борис Александрович,— и в голосе се прозвучал сухой треск, похожий на слабый электрический разряд.
— Значит, на этот раз у вас ничто не вызывает сомнений?..
Варя не успела ответить. Вскочила Машенька. Щеки ее горели, от возбуждения она пришепетывала больше обычного.
— Мы вам верим, Борис Александрович! И нам стыдно, что среди нас нашлись такие, кто подписал это письмо!
Секунда молчания — Оля Чижик зааплодировала первой, и вслед за ней аплодисментами разразился весь курс.
Повскакивали с мест, хлопали стоя, держа руки над головой.
Сразу же после звонка в нашу аудиторию ворвался Сергей Караваев. Он размахивал исписанным листом бумаги.
— Вот,— сказал он торжествующе, сунув его мне под нос,— опровержение! Соберем подписи — и в редакцию!.. Тут про все — и про Сосновского, и про тебя с Рогачевым!
— Что ж, попробуйте,— сказал я.
— И попробуем! А что?..
* * *
Я взял свою папку с книгами и спустился вниз. Кладовая спортзала была открыта, В ней сидела дежурная. Я оказал, что мне нужно тренироваться к зачету, оставил ей папку, взял первые попавшиеся лыжи и через двор спустился к реке.
Мне плохо даются лыжи. В городе, где я вырос, они не в ходу: зимой там выпадает мало снега. Когда наша группа, вытянувшись длинной цепочкой, выходит на занятия, меня прошибает потом: я силюсь не отстать от идущего впереди, не задержать лыжника, скользящего следом. Особенно не везет мне на спусках, к шумному веселью всей группы. Конечно, это смешно — когда такой долговязый малый, как я, раскинув палки, бухается лицом в снег.
Но теперь мне хорошо. Никто не торопит меня, не наступает на мои лыжи сзади, я бегу по укатанной, глубокой лыжне,— кажется, лыжи сами несут меня. Я уже миновал широкий изгиб реки с вросшим в лед плотом, на котором женщины летом полощут белье и, свернув его в тугие жгуты, складывают в корзины. Позади осталась каланча пожарной охраны, возле которой со страшными своими полотнами живет Самоукин; старинные белостенные особняки с колоннами уступили место почернелым срубам изб, развернувшимся к реке слепыми, безоконными ладами с плетнями огородов и крытыми соломой сараями.
Чем дальше ухожу я от института, тем легче становится мне. Простая, устойчивая, бездумная жизнь обступает меня, жизнь, над которой не властны ни Гошин, ни Жабрин. Последние огороды сменяются кладбищем, рассыпавшим по склону холма кресты и памятники, похожие на пеньки вырубленной рощи. Сколько их там, рядом — добрых и злых, честных и лживых, — угасли страсти, споры, самые надписи с именами потускнели, стерлись, Только церковка виднеется над обступившими ее заснеженными березами — задумчивая, безмолвная, как мать, у которой вот-вот вырвется негромкий вздох давнего воспоминания...
Лыжня, отлого поднимаясь по берегу, заросшему ивняком и черемухой, вывела меня к монастырю. Мы ездили сюда, весной, вместе с Машей,— не одни, а всей нашей оравой, на обратном пути лодка, в которой мы плыли, напоминала корзину, полную белого черемухового цвета.
И осенью, в первые дни занятий, в самый разгар бабьего лета с тающими в воздухе паутинками и стойким запахом трап, мы проезжали здесь на грузовиках, отправляясь копать картошку в подшефном колхозе. Тогда, на фоне безоблачной голубизны, отраженный в высокой, неподвижной воде монастырь со всеми своими башенками, выступами, крутыми стенами с рядами бойниц казался мне игрушкой, затейливым подобием старины, почти макетом. Только сейчас, в этот день без солнца, день, подобный сумеркам, с пепельным низким небом и мутными далями, я ощутил его подлинность, изначальность, и бурые крупные кирпичи, слагавшие монастырские стены, стали живыми сгустками времени, которого можно коснуться. Я неторопливо шел вдоль этих степ, вблизи таких высоких и мощных, с неожиданной яркостью представляя, каким громом и стоном была некогда полна эта земля, как содрогалась она под сбитыми копытами тысяч коней, как с гиком и воплями, ободряя друг друга, волочили к этим стенам штурмовые лестницы, как огненным варом и крупной свинцовои дробью отвечали пришельцам приземистые, нескладные мужики из-за этих стен, укрывавших в беду и причитающих баб, и ревущих младенцев, и пугливо мычащих коров...
Стая черных галок поднялась с башни, закружилась — и прянула в поле... И снова — тишина, тишина до тонкой звени в ушах.
Я остановился на пригорке и стоял долго, опершись на палки, один,— передо мной лежали поля, покрытые снегом, в сероватой клубящейся дымке, кое-где пересеченные черными полосками леса. И мягкие, опадающие линии пологих холмов только подчеркивались нерешительной вертикалью видневшейся вдали церквушки. Покоем,— печальным, тяжелым, дремотным покоем веяло отовсюду, земля незаметно переходила в небо, и небо было таким же сумрачным, давящим, как земля. Чуждым рокотом врезался в это безмолвие проходивший где-то позади меня поезд, и после его короткого гудка еще глуше и тяжелее навалилась на меня тишина. Я закрыл глаза. Во мне уже не было привычного желания уехать, не было зависти к тем, кто, покачиваясь на полке, мчит сквозь эти леса, болота и поля,— куда мне ехать? И что такое — Арбат, на который звал меня Олег? Не та же ли равнина, не та же ли прячущаяся от себя самой тишина? Все сковало морозом, все скрыто снегом, на тысячи километров вокруг снег и лед, снег и лед,— в полях, городах, сердцах...
Пока я тут стою — наверное, в институте шумят, спорт, отчаянные головы штурмуют Жабрина, но разве растопишь эти лед и снег, разве расчистишь небо?..
Мне стало холодно, я повернул лыжи в обратную сторону — и, кажется, впервые съехал по спуску, не кувыркнувшись вниз. Под самым берегом я заметил черное пятно на льду. Я подъехал к нему. Это было маленькое, ладони в три озерко густой и темной воды. Прямо над ним, по отвесному склону, сбегал узенькой струйкой живой и юркий ручеек. Он даже ворчал негромко и озабоченно, касаясь крошечного водного лонца, и там, в его хлопотливом бурлящем устьице, кипели быстрые пузырьки.
На какой-то миг все посветлело вокруг меня и, двоясь и троясь сквозь слезы, не один, а множество родничков брызнули из земли мне навстречу. Я расставил пошире концы лыж, чтобы не задеть живое озерцо, и приник губaми к упругой струйке. Зубы ломило от холода, но я припадал к ней снова и снова, чувствуя, как странная, непостижимая надежда рождается во мне.
* * *
Был уже вечер, когда я добрался до общежития, и промерз я здорово, а на столе блестел горячий чайник и валялись остатки колбасы. Я жевал колбасу, обняв руками кружку с кипятком, и слушал, что — уже в десятый раз, наверное,— рассказывал Сергей ребятам. Он сидел у себя на койке, распаренный, красный от выпитого чая, с расстегнутым воротом, белозубо улыбаясь и восторженно похлопывая себя по ляжкам.
Все это я очень хорошо представлял себе сам — как они шли по городу, заполнив тротуар и оттесняя прохожих, и какие у всех были розовые, морозные, веселые и сердитые лица, и как им казалось, что они пройдут, если надо, хоть тысячу километров и сметут на своем пути тысячу преград... Но перед зданием, где находится редакция,— зданием с ампирным фасадом, эдакий пародийный провинциальный ампирчик, некогда служивший вящей славе какого-нибудь предводителя дворянства или вроде того,— здесь, у самого входа, они ощутили себя уже такими отчаянными, потоптались, уминая снег, посовещались вполголоса и выбрали делегацию — Сергея, Машеньку, Лену, Олю Чижик и еще двоих или троих для внушительности, и эта делегация, уже настороженно, робковато вошла в тот самый, так хорошо мне знакомый коридор хлопающими дверьми, стрекотом пишущих машинок людьми, снующими из кабинета в кабинет. Еще бы ведь все, кроме Сергея, попали сюда впервые.
Но Сергей спросил:— «А у кого текст с опровержением?» — и ему передали этот текст, и все почувствовали себя бойчее, отважнее, и он повел остальных к Жабрину, потому что все мы были уверены, то письмо не миновало Жабрина, с него и начинать...
— Ну, значит, заходим все сразу, всем гуртом,— рассказывал Сергей, аппетитно растягивая подробности, — Жабрии аж привскочил: что, говорит, Караваев, теперь уже не один, теперь уже всех своих поэтесс и поэтов привел? Да у нас места на литстранице не хватит!..— Сергей закатился смехом.— Нет, говорю, мы не со стихами, мы совсем по другому делу... Он сначала удивился, растерялся...
Нет, не так это было, как рассказывал Сергей. Конечно же, знал, конечно же, еще до того, как раскрылась дверь, Жабрин знал, с чем они пришли,— в окно случайно глянул, увидел толпу, или в форточку ворвался гомон,— а если и не знал, так сразу обо всем догадался, едва они переступили порог. И все эти шуточки-прибауточки, все эти приторные заботы — «ах, стульев не хватает!.. Сейчас, сейчас, а ну, Сережа, ты же свой у нас человек»...— все эти «ну, что ж, посидим, побалакаем, какие такие у вас делишки, молодежь, и мы были когда-то рысаками»,— все это ему понадобилось, чтобы сразу сбить, пригасить воинственный напор,— единственное, чем сильна была эта наивная, пылкая и глупая зелень. И все-таки я дорого бы дал, чтобы увидеть его лицо в тот момент, когда Сергей положил перед ним «опровержение» и рядом — три листика, вырванных из тетради, с подписями в столбик! Наверное, тут все подались к столу, и Жабрин засопел трубкой, и стало слышно, как в мундштуке что-то попискивает и побулькивает.