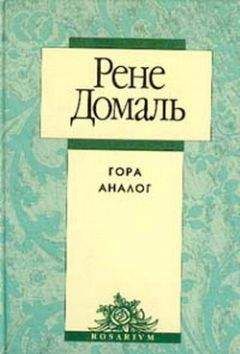Хьюго Клаус - Пересуды
— Он разве недавно женился?
— Мишель? Нет. Почему?..
— Да с новобрачными такое часто случается: они, пока друг от друга без ума, не вылазят из койки, дело это, сам знаешь, утомительное, а тут вдобавок еще и теннис…
Скандал продолжался, но ни суд, ни администрация, ни таможня, ни секретная полиция, ни правительство, ни местные власти ничего не предприняли против того, с кого все началось. Кто, почему и как простер над его головой охраняющую длань? Нет в мире справедливости, даже в Бельгии ее нет. Что-то должно быть сделано, раз закон не работает, обойдемся без него. Не будем же мы ждать, пока все посинеют? Пока протянут ноги все, включая стариков и детей?
Так рассуждали мы между собой, потягивая пивко, и что же мы, сидя у стойки бара, увидели собственными глазами?
Скутер, какие сейчас редко встретишь, Юлию Ромбойтс за рулем, а позади нее — виновника и предмет наших разговоров, заклейменного изгоя Рене Катрайссе, обхватившего ее прямо под грудями, которые, кстати, были отлично видны, потому как по летнему времени она не слишком много на себя надела.
Годдерис выругался и выскочил на улицу. Мы рванули за ним! Но, понимаешь, когда человек по уши налился крепким пивом, сваренным в Западной Фландрии, он реагирует не очень организованно, все разом пытались прорваться наружу, и у двери «Глухаря» образовался затор, короче, оказавшись на улице, мы увидели, как скутер, уже довольно далеко от «Глухаря», сворачивает на дорогу, ведущую в Синт-Элигиус-на-Вайве.
Некоторые уверяли, что Катрайссе успел обернуться и показать жестом то, что на словах могло означать: «Можете все так-и-растак-друг-друга-в-очередь». Другим показалось, что он швырнул в нашу сторону носовой платок, пропитанный жуткими африканскими бациллами. В обоих случаях речь шла о намеренной провокации. Мы вернулись в «Глухарь», осмеянные и оскорбленные. Выпили еще по пиву. И собрались идти громить лавку семьи Катрайссе, потому что просто осатанели и уже не отвечали за себя, то есть оказались перед лицом форс-мажорных обстоятельств и подпадали (в соответствии со статьей 77 Уложения о наказаниях, как объяснил нам бывший судебный исполнитель Жюль Пирон) под пункт о действиях в состоянии аффекта, но, выпив по последнему пиву и добавив еще, мы решили найти более подходящий момент, чтобы в клочья раздербанить семейство Катрайссе.
Так Рене Катрайссе и соучастники его преступлений, семья то есть, чудом спаслись от расправы, к которой были готовы алегемцы.
Учитель Арсен
«Так атлеты несколько раз в жизни, без использования какого-либо допинга, преодолевают границы собственных возможностей, когда каждый нейрон, каждая клетка находятся на грани разрушения, чтобы оказаться, в славе нечеловеческой, там, где никто до них не бывал…» — записал Учитель Арсен в своем дневнике. Он отложил «Ватерман»[81], сменил очки и поглядел на жену, которая уговаривала младшую группу поиграть в волейбол. Она прыгала, бросала мяч, подхватывала его, улюлюкала и кричала. Пусть жизнь наша и ближних наших наполнится весельем, пусть враги наши погибнут под градом критики.
Он вернулся к положенной на козлы доске, которую, дабы повысить самоуважение, именовал письменным столом, снова сменил очки, перечел последние строки; почерк ужасный, но приятно сознавать, что его неразборчивые каракули все же намного понятнее рукописей Монтеня или Фомы Аквинского, уселся, скрипнув стулом, и продолжил:
«Итак, именно в таком состоянии явился ко мне Р.К., поддерживаемый Ю.Р., которую он повелительным жестом отослал, будто служанку, дожидаться его у молочной фабрики. Ю.Р. повиновалась, задница у нее, конечно, впечатляющая, хотя лично я предпочел бы не столь выдающуюся задницу ее сестры А.
Р.К. прочел мне лекцию о прошлом, которое хотел непосильным грузом взвалить на меня. Он утверждал, что я обязан был сдерживать его в классе, игнорировать попытки выделиться, особенно когда, требуя внимания к себе, он корчил рожи и выкрикивал непристойности. Неужели я не понимал, сказал он с нажимом, что он нуждался во внимании и нежности, которых не получал в доме позади лавки К.? Он констатировал, что я хорошо выгляжу, и мне было приятно это слышать (жена, напротив, регулярно напоминает мне, что я похож на французского бульдога), но позже до меня дошло, что, говоря с похвалой о моей внешности, он издевался. Потом, назвав какие-то из моих высказываний пустой болтовней, он заявил, что я несу ответственность за следующее:
а) его вызывающее поведение в школьные годы;
б) сумасбродства, которые он себе позволял вкупе с молодыми людьми своего круга и которые приводили к вмешательству властей;
в) бессилие, которое он ощущал, пытаясь сформулировать свои идеи (sic!).
Я прямо спросил, чем я могу ему помочь, сказал, что он производит впечатление более уравновешенного человека, чем прежде (что не соответствует действительности и с моей стороны было тактическим ходом, дабы уяснить его истинные намерения).
Он сказал, что хотел бросить прощальный взгляд на двор, где играл в детстве. Я разрешил ему все осмотреть. Вид двора, похоже, не принес ему желанной радости. Ему жаль, сказал он, что больше нет липы (индогерманский символ радушия, но откуда деревенщине знать об этом), которая раньше росла в середине двора.
Последовавшая пустая болтовня о том, что двор без нее уже не тот, едва не довела меня до нервного расстройства. Должен ли я, среди прочего, сообщить здесь важнейшую информацию? Р.К. красит губы. Не могу понять, зачем ему понадобилось мазать их голубой помадой и кого он собирается при помощи этого маневра соблазнить, но меня не обманешь. Что особенно удивило меня в его неожиданном последнем визите? Что он ни словом не обмолвился о своем пребывании на африканском континенте. Может, он в таком жалком состоянии, что не имел сил разумно рассуждать об этом? Боюсь, так оно и было, потому что на мой определенный, конкретный вопрос относительно Черного континента, а именно: что он думает о роли, которую могли бы играть там мы, богатые европейцы, и о наших обязательствах по отношению к угнетенным народам, он ответил непонятным набором звонких звуков, показавшихся мне похожими на язык тамошних аборигенов. Как говорят здешние, деревенские, толку от такого не добьешься. Собрав все свое мужество, я попытался ответить ему похожим набором звуков, но наткнулся на такое жесткое сопротивление с его стороны, такую агрессию, что последний из звуков застрял у меня в горле.
Я повторил свой вопрос, сократив его, и добавил еще один, а именно: о возможности развития взаимопонимания между неграмотным большинством населения через посредство внедрения в Африке упрощенной версии эсперанто. Я, конечно, не стал пояснять, что сам я — эсперантист до мозга костей, и что супругу свою я обрел именно через клуб эсперантистов „Язык Надежды“. Но наткнулся на глухое молчание.
Тогда я задал новый вопрос: как он оценивает свою службу в бельгийской армии, поддерживающей эксплуатацию стран третьего мира.
Мне показалось, что, быть может, благодаря прямой постановке вопроса, он хотел ответить на это, но, к сожалению, лишь повторил несколько раз слово „эксплуатация“. Я добавил, считая своей профессиональной обязанностью, как и в те времена, когда он сидел у меня за партой в коротких штанишках, пояснить ему succinctus[82], как это происходит: сперва группу людей объявляют „низшими“, потом создается идеологическая система, позволяющая „высшим“ вершить над „низшими“ суд и эксплуатировать их.
На это он ничего не ответил. Жаль, он мог бы помочь мне понять, в какой степени его собственный юношеский протест может быть сравним с протестом угнетенных народов. Почему он взбунтовался и почему африканские бунтовщики устраивали пожары? Не безрассудство ли сжигать свое собственное имущество, хижину, город?
— И все же, — произнес я с некоторым апломбом, — не пагубно ли это самоуничтожение, единственный выбор, единственное решение (на этой неделе я прочел об этом еще где-то, но, конечно, motus[83]).
Но в эти рассуждения он уже не вслушивался. Лишь монотонно кивал, словно навечно застрял в солнечном школьном классе. Дошли ли до него в результате мои аргументы, или темперамент, все еще таившийся в его напоминавшем обтянутый кожей скелет теле, гнал его туда, где ожидала Ю.Р.? Р.К. поднялся.
У дверей, когда я пожелал ему всего самого лучшего и добавил, что всегда поддерживал его во всех его испытаниях, он пробормотал себе под нос:
— Ты есть и навсегда останешься школьным учителем с мозгами, засранными гуще, чем окошко на скате крыши, загаженное птицами.
Со смешанными чувствами, но безо всякого сострадания смотрел я, как он, прихрамывая, удаляется по улице».
Рене и Юлия