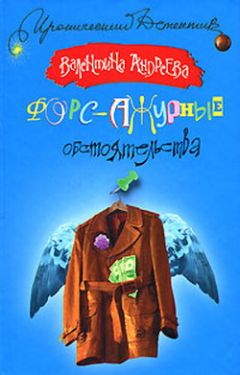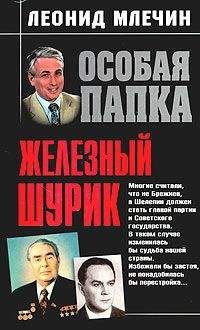Виктор Голявкин - Избранные
Но самое нелепое было то, что я не видел фильма «Свистать всех наверх». Я даже не знал, что такой фильм вообще существует.
Взгляд мой на дощечке справа: «Дорогой друг! Перед тобой фисташка, требует особого ухода и внимания».
На дощечке слева стерты первые слова. Дальше читаю: «…останови того, кто этого не понимает». Чего не понимает? Останови того, кто ничего не понимает. Так лучше.
Слева, справа, сзади, спереди, на всех кустах, деревьях таблички по-латыни, номерки. Все растения с номерками и табличками.
— Вас ждет еще одно удовольствие, — говорит экскурсовод.
Ничего меня здесь не ждет.
— Обратите внимание на примулу, она расцветает перед извержением вулкана, является как бы сейсмографом.
Чепуха на постном масле, никакого вулкана здесь нет.
— Между прочим, я два раза смотрела «Свистать всех наверх», — сказала Ирка, — и нисколько об этом не жалею.
— Семейство кактусов… Опунция димовидия… Семейство кленовых.
Направляется в нашу сторону мужчина с фотоаппаратом. Останавливается и с улыбкой фотографирует женщину из нашей группы. Она улыбается в ответ и позирует. «Карточки ведь все равно не будет», — говорит она. «Непременно будет, чтоб мне пропасть!» — обещает он. Разговорчик у них пошел сразу будь здоров, как по маслу, без единой паузы, даже завидно.
ОН. В нашей группе механики, совпартслужащие и два планериста.
ОНА. А наша группа целиком состоит из текстильщиц.
ОН. Орехово-Зуево? Пардон, Конаково? Прошу прощения — Вышний Волочек?
ОНА. Ведь в точку попали, ой, надо же!
ОН. Я там был, прошу прощения, во время войны. В тысяча девятьсот… году наш батальон стоял, прошу прощения, в универмаге. Как вас зовут?
ОНА. Вам все скажи, все доложи.
ОН. Как же я вам карточку вручу, прошу прощения?
ОНА. Угадайте, как меня зовут, раз вы все отгадываете.
ОН. Отгадаю, прошу прощения, если вы меня не будете торопить.
ОНА. Кто же вас торопит в отпуску!
ОН. Маша? Саша? Галя? Валя? Оля? Маня? Аня?
ОНА. Алексей, скажи ему мое имя.
Медленно поворачивает свою крупную голову на бычьей шее Алексей. Оторвали его от кустов и деревьев. Отвлекли от редкой зелени. Что надо?
Стремительно удаляется. «Пардон — прошу прощения», не ожидал такого финала. Медленно поворачивается крупная голова Алексея на вечнозеленое, дикорастущее.
— Пройдемте в аллею пихт, — говорит экскурсовод.
Басит Алексей:
— А где лилии? Я люблю лилии…
Затопала экскурсия в аллею пихт…
Не желаю я в аллею пихт!
И не желаю в любви объясняться. Такие слова говорить — все равно что повеситься. Люблю, люблю, я вас люблю, никто вас не любит, не полюбит, вас могут разлюбить, а я не разлюблю, никто вас так любить не будет, моя любовь сильнее всех, «…я вас люблю, чего же боле, что я могу еще сказать…» Пусть она мне и объясняется, как у Александра Сергеевича Пушкина. С какой стати должен я ей в любви объясняться, а не она мне? Кто это придумал? Я должен ей шептать: «Люблю», а она мне в ответ: «Что вы сказали? Повторите, пожалуйста, я вас не слышала…» Адью фердибобель, как Штора выражался. Да и откуда я знать могу: люблю я ее или не люблю? Если она мне нравится, так Лена-артистка тоже нравится. И Сикстинская мадонна. Любовь, я считаю, — навеки. Как Ромео и Джульетта — полюбили друг друга и на тот свет отправились без всяких штучек. Вот это точно. А кто сто раз в любви клянется, а потом заявляет: я тебя разлюбил, прости, пожалуйста, — ничего себе любовь!
— Как может быть «Свистать всех наверх» плохой фильм, ели там идея любви! — вдруг сказала Ирка.
— А кто сказал, что плохой фильм? — спросил я.
— Ты сказал!
— Ничего я не говорил, пошли отсюда!
10— Какая же это картина?! — возмутилась Ирка, когда я ее подвел к стене.
Мне показалось, она меня хочет ударить по щеке.
Я отошел подальше и совсем не к месту прочел свое единственное стихотворение, сочиненное на уроке арифметики:
Рожден ли я средь людей теряться,
Спокойной жизнью наслаждаться,
Прожить бесславно свой недолгий век
И умереть как жалкий человек?
Сзади меня совсем не Иркин голос спросил:
— Как фамилия?
Я обернулся.
Вот уж не ожидал я увидеть товарищей милиционеров! Как они появились? Дверь оставил раскрытой. Какая теперь разница.
— Чего вы? — сказал я. — Я ничего…
Я хотел выскочить в дверь, но меня перехватили.
— Спокойно, спокойно, — сказал старший лейтенант, — ишь ты…
— Что я сделал?! — сказал я.
— Покажите-ка вот эту книжечку, — попросил он.
На столе лежал «Суриков».
— Давайте-ка, давайте-ка ее сюда.
Он сам взял «Сурикова», повертел в руках и передал сержанту.
— А вы, барышня, что тут делаете?
— В гости пришла, — сказала Ирка.
— Погостили, а теперь домой идите.
— Ну, я пошла, — сказала Ирка.
— До свидания… — сказал я.
— Соберите краски, — сказал старший лейтенант.
— Нету у меня никаких красок, — сказал я, — кончились у меня все краски.
— Ну и ну! — сказал он, глядя в упор на стену. — За это я бы своего сына по головке не погладил!
Сержант рассматривал стенку с интересом. Он потрогал краску и тоже измазал палец, как мой отец.
— И на это ты все краски угробил? — спросил с недоумением старший лейтенант. — А теперь отвечать придется, ай-ай-ай! Я бы всыпал. Ну, дает! Кто у тебя родители?
Я молчал.
— Приличные, наверное, родители, а сын — вор.
— Доверху все замазал, товарищ старший лейтенант, — сказал сержант, — живого местечка не оставил, товарищ старший лейтенант.
— Воруем, значит, «великие художники»? Сурикова крадем, костюмы, краски…
— Какие костюмы?
— Ах, мы о них не слышали?
— Не знаю я ни о каких костюмах!
— Сурикова, значит, украли, — очень хорошо!
— Зелененькой красочкой, товарищ старший лейтенант, похоже, из ковша лил…
— Распустились молодые люди.
— И потолочек прихватил, — сказал сержант.
По стене скользнул солнечный зайчик и пошел плясать по краскам. Наверное, какой-нибудь мальчишка баловался зеркальцем на противоположном балконе.
— Намазюкал, аж глаза ломит, товарищ старший лейтенант, — сказал сержант.
— Ну, пошли, художник, — сказал старший лейтенант.
— А как я родителям сообщу?
— Раньше нужно было о родителях думать, молодой человек.
Кошмарики, пропало ваше чадо…
11В камере я положил в угол свой пиджачок под голову и прилег. Хорошо, что пиджачок прихватил с собой на всякий случай.
Лезли в голову мысли. Самые разные, самые несуразные.
Подвальчик темненький, прохладненький подвальчик, а наверху жара. Играют двое в карты. Странно, у них карты не отобрали, не обыскали. Пьяный спит. Обстановочка, новая обстановочка. Никто на меня внимания не обращает, и то хорошо.
Встал, потянулся. Надоело лежать.
Те двое кончили игру, один мне говорит:
— Не надо.
— Чего не надо?
— Здоровье теряешь, брат, здоровье теряешь…
— Как это?
— Факт тебе говорят: когда тянешься — все здоровье уходит. Нужно хлопнуть себя по груди. Хлопни, брат, себя по груди.
Он хлопнул себя по груди кулаком, и я хлопнул.
— Вот так. Здоровья не теряй.
Никто меня не спрашивал, за что я сюда попал, хотя мне всех хотелось спросить.
Я отошел в сторону и еще раз хлопнул себя по груди.
Он заметил:
— Умный человек — совет повторил! Молодец — совет повторил! Разумный совет повторил «Антон около пекарни»!
Он подошел ко мне с картами в руках.
— Набрал однажды я пригоршню медяков на три рубля, — продолжал он, — кладу в карман и чувствую, меня клонит, клонит в одну сторону. Один бок другой перевешивает, брат. Так. Двое подкатили, понял? Ограбление средь дня. А я? Пригоршню медяков швырнул в рыло — ать — одному! Ать — другому! Самого гиганта можно свалить, пехлевана — р-рраз! Наповал! Ать! Ошарашил…
Дверь отворилась, его окликнули.
— Некогда мне! — заорал «Антон около пекарни». — Не хочу я сейчас домой, дайте с человеком поболтать!
— Давай, давай, Антоша, погода хорошая, — сказал милиционер в дверях.
— Тьфу! — сказал «Антон около пекарни». — Ну, я пошел… Здоровье не теряй, — сказал он мне возле дверей, хлопнув себя но груди кулаком.
Я сделал то же самое.
— Умный человек, — совет повторил, — сказал он.
Вскорости ушел за ним его партнер в карты. Ушел, протрезвившись, пьяница.
А я сидел.
12— Кто здесь сидит? Кто здесь сидит? — разбудил меня откуда-то издалека тонюсенький голосок.