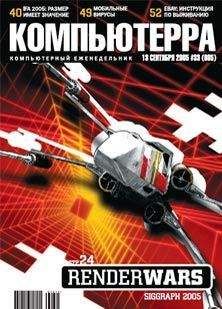Барбара Кингсолвер - Лакуна
Сеньора пишет картину в маленькой студии рядом со спальней. Не так уж там и грязно: она подстелила под стул тряпку, которая вечером выглядит так, словно на нее пролился сине-красно-желтый дождь. Хозяйка вытирает ножи и кисти; она в сто раз опрятнее художника, который бросает все на пол и уходит прочь, громко топая ковбойскими сапогами. Но Канделария и Олунда отказываются нести ей наверх обед, отговариваясь тем, что, когда сеньора рисует, она становится еще раздражительнее обычного. Никогда не благодарит, потому что жизнь, по ее словам, — борьба, а не благодать, а слугам платят за то, чтобы они приносили что их попросят. Сегодня ей потребовались фаршированные перцы чили, еще синей краски и, как ни странно, совет.
— Очень красивая картина, сеньора. — Когда люди просят совета, обычно им нужно одобрение. — Дело движется быстро. К концу месяца мы наверняка ее закончим.
— Мы? — оскалилась королева, точно кошка, показывающая зубы другой кошке. — Как сказала муха, сидевшая на спине быка: «Мы пашем это поле!»
— Простите.
— Ничего страшного, Инсолито. Если мне скажут, что картина ужасна, я отвечу, что это «мы» написали.
На картине были изображены парящие в небе люди, связанные лентами.
— Ты любишь живопись? — поинтересовалась хозяйка. — Ты ее понимаешь?
— Не особо. Скорее слова. Они действительно красивы. Стихи и все такое прочее.
— Чем же вы занимались в школе?
— Жуткими гадостями, сеньора. Сплошная муштра и психомоторика. Школа была военная.
— Dios mió, бедный кутенок. Но ведь им так и не удалось тебя сломать, верно? Я заметила, что ты нет-нет да и писаешь хозяину на ботинки.
— Простите?
— Я слышала, как ты читал служанкам газету внизу в столовой. Коверкал заголовки, чтобы их посмешить. Эх вы, мятежнички. — Она по-прежнему стояла лицом к картине и говорила не оборачиваясь. Неужели собирается уволить?
— Это пустяки, сеньора, так, для препровождения времени. Мы же все равно работаем.
— Не бойся, я революционерка. Я одобряю мятеж. А куда тебя послали учиться, в Чикаго или куда-то в этом роде? В какую-нибудь промозглую дыру?
— В Вашингтон.
— Ах да, трон королевства Гринголандия.
— Что-то в этом роде. Скорее, кукурузные поля на окраине королевства. Школу окружали фермы и поля для поло.
— Поло? Это что за злак?
— Это игра. Богачи играют в бейсбол верхом на пони. Королева положила кисть и обернулась.
— Ну разве не дикость? Богачи в Соединенных Штатах даже не умеют с толком тратить деньги. — Она покосилась на тарелки с обедом, изучая rellenos[124]. — Закатывают балы, в то время как другие люди не имеют крыши над головой и голодают. А эти толстосумы подают крохотные закуски на приемах! Живут друг у друга на головах, как птицы в клетке. Женщины похожи на репу. А когда разоденутся — на репу в платье.
— Вы правы, сеньора. В Мексике гораздо лучше.
— Мексика тоже катится к чертям. Каждую неделю гринго растаскивают ее по кускам, подменяя очарование наших маленьких площадей и индейской культуры модными уродствами. Кончится тем, что они превратят заросли наших агав в поля для бейсбола на пони. И боюсь, что с этим ничего не поделать. Большая рыба всегда съедает мелкую.
— Да, сеньора.
— Кутенок, не называй меня «сеньора». Меня от этого тошнит.
— Простите. Но вы совершенно правы. Моя мать мексиканка, но всю жизнь хотела лишь одеваться как американская дама да женить на себе американцев.
Хозяйка приподняла бровь:
— Американцев?
— Разумеется, не всех сразу. Ей это удалось лишь однажды, с моим отцом. Все остальные рыбы выскользнули из сетей.
Королева рассмеялась и покачала увитой лентами головой, точно флагом на ветру. Уж она-то никогда не превратится в репу.
— Инсолито, приходи и плачься мне почаще.
— Олунда держит меня на коротком поводке, сеньора.
— Прекрати называть меня «сеньора». Сколько тебе лет?
— Летом будет двадцать.
— Да мы с тобой почти ровесники! Мне двадцать пять. Так что зови меня просто Фридой. Сезар не стесняется, значит, и тебе можно, это не государственное преступление.
— Сезар вам в дедушки годится.
Сеньора наклонила голову:
— Ты же не боишься меня? Просто стесняешься, верно?
— Пожалуй.
— Беда в том, что тебе не хватает огня в крови. Ты не совсем мексиканец, но и не гринго, Инсолито. Ты как этот дом. Двойственный человек, состоящий из двух разных половин.
— Наверно, вы правы, сеньора Фрида.
— В комнатах твоей матери — любовь к поэзии и красоте. И, вероятно, тайные страсти. А на половине гринго — рассудок, рационализм, умение выживать.
— Все так. Вот только живу я на кухне. Причем крохотной.
— Слава богу, на кухне в твоем доме правит Мексика.
4 МАРТАГосподь наш Иисус еще не воскрес. Откуда нам это знать? Олунда ворчит, что опять нужно готовить постные блюда. Но это же объеденье: фасолевый суп, картофель в соусе из овощей, жареная фасоль. Вечером за ужином художник намекнул, что ему требуется больше помощников мешать штукатурку, а хозяйка отрезала: «Sapo-rana! Сам знаешь, с твоим аппетитом помощник нам нужен на кухне». Она называет его жабой, потом встает, идет к нему и целует эту жабу. До чего странная пара. И кстати, почему эти коммунисты соблюдают Великий Пост?
Газеты с репортажами о новой фреске художника во Дворце изящных искусств слетают со станков с такой скоростью, что того и гляди загорятся. Он копирует собственную фреску, которая произвела скандал в Соединенных Штатах, и еще до завершения ее пришлось уничтожить, такой страх она внушала гринго. А любой мексиканец, которому удалось напугать гринго, — национальный герой. Теперь каждый вечер в доме толпятся другие художники, садятся ужинать, даже не смыв с волос краску. Писатели, скульпторы, самоуверенные накрашенные дамочки, добивающиеся права голоса, и студенты, которые, видимо, вместе с прокаженными ждут дня San Juan Bautista[125], чтобы наконец помыться. Некоторые уже явно вышли из студенческого возраста и занимаются неизвестно чем (если вообще чем-то). Наконец, есть среди них один японец, одетый как гринго: он приехал, чтобы сделать фреску в новом Меркадо.
Единственное место в доме, где можно разместиться, чтобы перемыть столько посуды, — прачечная под лестницей. Сверху во двор доносятся голоса гостей, пьющих до полного единодушия, иногда всю ночь напролет, как дельцы, приезжавшие навестить дона Энрике. Эта же компания хочет выгнать из Мексики всех американских нефтяников. Сеньора кричит: «Спасем Мексику для мексиканцев! Спасем мексиканцев для Мексики! Вот две заповеди нашей революции!» И все дружно запрокидывают головы, глотая за Мексику текилу.
Сегодня художник объяснил слугам, старавшимся прошмыгнуть за стульями гостей, чтобы собрать со стола тарелки, что это цитата из Моисея.
— Сеньор Ривера, неужели Библия говорит о Мексике?
Время от времени бедняжка Канделария служит сеньору объектом развлечения. И не исключено, что не только в этом смысле.
Он пояснил, что речь идет о другом Моисее, Саенсе, который в 1926 году сказал: «Быть может, десять лет революции и не спасли всех мексиканских детей, но по крайней мере мы спасли их от папы и итальянского Ренессанса».
— В Ренессансе есть свои сильные стороны, — возразила его супруга.
— Честное слово, Фридуча, кому нужны эти порхающие пухлые херувимы?
Вообще-то она как раз сейчас пишет картину, на которой есть херувимы. Похожи на непослушных детей с крыльями. Хозяйка вечно недовольна тем, что рисует, и разговаривает сама с собой: «О боже, это никуда не годится. Выглядит как куча собачьего дерьма». Канделария боится к ней приближаться. Возле материного кладезя ругательств сеньора вполне может воздвигнуть собственную пирамиду.
А вот в мужа она верит свято. Всегда говорит гостям: «Диего — это культурная революция, и к черту остальных художников!» Несмотря на то что среди гостей как раз художники. Как-то раз в студии она сказала: «Он велик. Помни об этом, если тебе покажется, что смотришь на толстую жабу, которой не поднять с пола собственные штаны. Его творчество — вот в чем секрет. Он делает то, что никто до него не мог». Наверно, слышала, как Олунда на него жалуется. В этом странном бетонном жилище голоса разносятся эхом.
Сеньора утверждает, что у мексиканцев натянутые отношения с собственной историей, потому что нация формировалась из множества разных племен: тольтеки, ацтеки, майя, индейцы из Оахаки и Соноры, — и с самого начала все они сражались друг с другом. Потому-то европейцам и гринго удалось все прибрать к рукам. «А Диего под силу взять все эти разные племена и сплотить в одну patria[126] — Мексику», — поясняет она. Он рисует это на стенах, и фрески его так огромны, что их невозможно забыть.