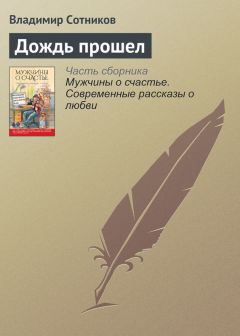Андрей Дмитриев - Крестьянин и тинейджер (Журнальный вариант)
…Солнце жгло, Гера, зажмурившись, длил в себе прерванный телефонный разговор: «Обиделась из-за неловко сказанного слова, а я даже тем утром, когда мать плакала на кухне, а ты до этого ушла в хорошем настроении, ничем не объяснив свое появление, свое хорошее настроение, я и тогда не думал о тебе с обидой! Я и сегодня тоже вправе на тебя как следует обидеться, но я ведь на тебя не обижаюсь…»
Все же обида накрывала с головой, и Гера вспомнил, будто вынырнул: суббота.
Он встал и попросил водителя высадить его возле поворота на Селихново.
Шел по Селихнову упруго и улыбался встречным так, словно узнал о каждом все и каждого одобрил …
Достал на ходу из заднего кармана джинсов залежавшуюся там бумажку с адресом Лики, сверился с бумажкой. Перед подъездом трехэтажки запнулся ненадолго, огляделся неуверенно, переминаясь с ноги на ногу, и все-таки вошел в подъезд. Кошками пахнет, кем-то еще пахнет, а борщом пока не пахнет, отметил про себя насмешливо, всходя по сырой лестнице, но дело даже не в борще, а в том дело, о чем борщ: а он о том, что я мужик, а не щенок на поводке… Переступая через ящики с проросшей грязною картошкой, через коробки, из которых раздавался беспрестанный, ровный, словно провода под током, писк цыплят, протискиваясь между мотороллером и шкафом с запыленными пустыми стеклянными банками, он поднялся на третий этаж. Еще раз сверился с бумажкой. Звонка на двери не было. Он постучал.
Лика открыла. Копна ее волос на этот раз была черной. На Лике был черный кожаный мужской пиджак без пуговиц, наброшенный на плечи поверх комбинации. Гера отвел глаза от крупных веснушек над самой ее грудью, от сетчатых морщин на рыхлой шее. Она кивнула равнодушно и вернулась в комнату; Гера вошел вслед за ней. По всему полу комнаты было разбросано нестираное белье; пар вокруг таза с кипятком, в котором отмокали тряпки, пах мясом пытавинского рынка.
— У тебя дело? — нетерпеливо заговорила Лика. — Суббота, я сегодня не работаю… Если что важное — зайди в контору через часик, а лучше через два. Я забегу, но только ненадолго…
— Нет, никаких дел, — виновато сказал Гера. — Просто я вспомнил: ты звала меня на борщ в субботу.
Лика нахмурилась, тоже пытаясь вспомнить. Сказала:
— Ты же видишь, мне не до борщей. Тут голова кругом. — Она поправила нечесаную черную копну и заставила себя улыбнуться. — Нельзя верить всему, что говорят девушки.
В кабине попутного грузовика Гера проспал до самых Сагачей. Легко шагнув с асфальта на проселочную глину, он вспоминал свой глупый визит к Лике весело, как анекдот, который было бы неплохо рассказать кому-нибудь в Москве, да некому: ну не Татьяне же его рассказывать. Нет у него друзей в Москве, одна Татьяна, и, радуясь тому, что не наделал глупостей в Селихнове, он уже думал о Татьяне без обиды (уже обидной самому), но с благодарностью. Лишь на минутку забежал в дом Панюкова, вернул в горшок мобильник, оставил на столе коробку и пакет и сразу же отправился в поля — гулять и длить в полях благодарную мысль о Татьяне.
…«Кто она? — со сдержанным испугом спросила Геру мать на третью неделю его встреч с Татьяной. — Ты прости, но я вправе тебя спросить, ведь ты уже какой день приходишь домой поздно, весь замерзший, с глупыми глазами. Она из вашей школы?»
Гера, прежде чем ответить, покраснел, но не из-за Татьяны — из-за школы. Родители тогда еще не знали, что он в школе не бывает.
«Краснеть не надо, мы цивилизованные люди, и мы все поймем», — сказал отец.
«Она работает», — ответил Гера.
«Насколько же лет она тебя постарше?» — осторожно поинтересовалась мать.
«На несколько», — ответил Гера.
Отец задумчиво одобрил: «Это хорошо».
Мать бросила на отца недобрый, но недолгий взгляд и больше о Татьяне ничего не выпытывала, даже имени не спросила. Зато отец однажды сказал Гере: «Если так выйдет, что ты не сможешь прийти домой ночевать, ты прежде позвони, предупреди. Не маме звони — мне; не объясняй мне ничего, а просто предупреди; с мамой я сам поговорю… Договорились?»
«Да», — ответил Гера, на отца не глядя.
Отец как знал. Уже на следующий день Татьяна позвала Геру к себе. Позвонила на мобильник и сказала: «Я сняла новую нору, почти в центре, на Лесной. Могу я пригласить тебя на новоселье? — Спокойно уточнила: — Только тебя, к девяти вечера. — Потом, еще немного помолчав, спросила: — Чего молчишь, не отвечаешь?.. Запоминай скорее адрес…»
Как и где он ни убивал время, его, когда Гера оказался на Лесной, оставалось еще с избытком. Пришлось более часа мерзнуть, шатаясь маятником от Тверской-Ямской до Новослободской, обратно до Тверской-Ямской и — снова до Новослободской.
Лесная была не по-московски темна. Во мгле жирно горели окна; троллейбусные шины то и дело всхлипывали в жидком снегу и соли мостовой; машины проезжали редко; прохожие почти не попадались. Разумней было бы зайти в кофейню на углу Тверской-Ямской, а то и переждать в азербайджанском рыбном ресторане на Лесной — Гера упрямо мерз, чтобы промерзнуть до нутра, потом прийти в тепло жилья Татьяны и как спасение принять это тепло…
В девять шагнул во двор Татьяны и позвонил отцу. Отец сказал: «Я понял, хорошо. Будь аккуратен и не опоздай в школу».
«Завтра суббота», — торопливо напомнил Гера, набрал код домофона и вошел в незнакомый подъезд.
Дверь квартиры была не заперта, чуть приоткрыта; на площадку прямо к ногам, словно приглашая не звонить и войти тихонько, тянулся узкий свет. Гера и не стал звонить. Вошел, и сердце его упало. Из глубины квартиры несло сигаретным дымом, а ведь Татьяна не курила никогда. Раздался влажный женский смех взахлеб — Татьяна никогда так не смеялась…
На кухне, за пустым столом, перед полной пепельницей сидела полная веселая девица одних с Татьяной лет. И Татьяна была весела. Кивнула Гере, приглашая его сесть, так спокойно и беспечно, как будто он давно эту девицу знал, как будто бы в присутствии девицы не было ничего неожиданного и обидного ему. Гера вспомнил, как он только что, стараясь не выказывать смущения, звонил отцу, и криво улыбнулся. Ни слова не сказав, присел у края стола. Татьяна сразу же о нем забыла и продолжала слушать гостью. Та, перескакивая с одного на третье, обрывая, перепутывая фразы, повторяя, забывая и снова повторяя их обрывки, тянула и пряла свой безразмерный треп, из которого Гера, приуныв, не мог и не хотел ничего понять, лишь вздрагивал, когда она вдруг заходилась самодовольным влажным смехом. Девица будто бы совсем не замечала Геру и обращалась лишь к Татьяне, но все ж нет-нет, да и поглядывала мельком на него, быстро подбрасывая вверх и сразу же роняя веки, опушенные густыми ресницами с крошками подсохшей туши. Прокуренная кухня была нагрета, лицо Геры горело, но ледяной холод, принесенный им с Лесной, медленно тая в сердце, растекался по всем жилам.
Девица вдруг забылась, засморкалась, скомкала и оборвала сразу все нити своей путаной болтовни: «Ой, бегу, бегу; пора! Жаль, мало потрещали!»
«Ты не расстраивайся, — утешала ее Татьяна, провожая до прихожей, — мы потрещим еще, ты заходи…»
Девица ушла тихо, словно выветрилась, один табачный дым остался.
«Ты меня прости, — просто сказала Татьяна Гере, — я ее не ждала. Соседка по моей бывшей норе, была поблизости, зашла из любопытства… Ты — как? Ты как-то странно смотришь…»
Гера молчал, не в силах выдавить ни слова из озябшего и перехваченного волнением горла. Татьяна выбросила окурки вместе с пепельницей в мусорное ведро и поставила на стол бутылку чилийского каберне. Сказала: «Открывай», но его занемевшие от холода пальцы никак не могли совладать со штопором.
«Так дело не пойдет, — сказала Татьяна, отобрала у него штопор, взяла и потянула за руку. — Вино — потом».
Огромная птица, напугав, внезапно выпорхнула из-под самых его ног и полетела низко над травой, тяжело хлопая темными, как тени, крыльями. Гера невольно замедлил шаг. Птица опустилась на лысый взгорок совсем недалеко впереди и оказалась вовсе не огромной, а небольшой, размером с голубя. Гера медленным шагом продолжал идти вперед. Птица подпустила его так близко, что он мог разглядеть черные пятна в ее коричневом оперении, ее чуть загнутый желтый клюв и круглый красный глаз; внезапно вновь взлетела, раскрыв неторопливые большие крылья, снова опустилась и скрылась в густой траве, успев лишь ненадолго отвлечь его от Татьяны.
«…Что же ты делаешь с собой? Разве так можно?.. Да, я тебе сказала: в девять, но если ты уже пришел, то и пришел бы, я была бы только рада, зачем же мерзнуть до костей на улице?» — выговаривала ему Татьяна, раздевая его и укладывая под одеяло.
Он укрылся с головой и отвернулся. Лежал один, не согреваясь и дрожа. Тело ее, прильнув к его спине, ожгло. Она не шелохнулась, согревая; дышала тихо и умиротворенно, как во сне, и он подумал, удивляясь сам себе: ничего и не надо, вот так бы и всегда, понемногу согрелся и не заметил, как уснул. Проснулся от ее касаний, нетребовательных, но подробных. Пальцы Татьяны обстоятельно, неторопливо и бестрепетно исследовали его спину, шею, плечи, придирчиво и горделиво перебирали кожу на груди, потом на животе, словно ища, но и не находя на ней каких-либо изъянов. Он возбудился сильно, как никогда с самим собой; поджав колени, попытался это скрыть, но невозможно было скрыть, и невозможно было остановить ее находчивые пальцы, ее горячую ладонь; ее возглас «ох!» он понял как приказ и, замерев сердцем, закрыв глаза, повернулся к ней. Кое-как обнял ее деревянными руками, ткнулся губами в шею, потом лицом в лицо.