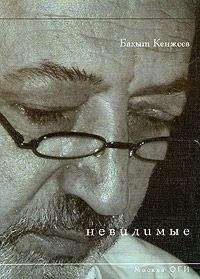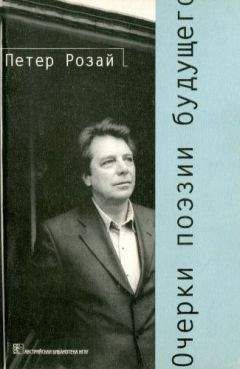Александр Гольдштейн - Спокойные поля
Яков Абрамович Сатуновский,
эти прекрасные стихи не ответ. Они ответ лишь в том неприложимо непреложном смысле, в каком отвечают такие — и не такие, а эти — стихи. Не ответ в моем нынешнем положении, когда… Что «когда»? Что за увертливый синтаксис? Почему они прямо, как всего-ничего с год назад, не называют диагноз? Миндальничают? Остерегаются повторений? Тревожась вконец извести твою скособоченно хилую бледность? Да бросьте, ей-богу, я вас умоляю, им самим не все ясно. В томографически просветляемой, скальпелем пощаженной средней доле правого легкого кое-что завелось или заводится, но идентично ль тому, что было в нижней, отрезанной доле, тут мы пока что воздержимся, конфузится врач. На всякий пожарный, советует доктор — он советует не по-русски, а на языке этого места, как почти все его доктора, кроме медбратьев и медсестер, но песня знакома — пройдите на всякий пожарный опережающий курсик, с ущербом, кто спорит, для головного покрова, ну так походите в кепке, не дамочек чаровать интересной разбитостью членов. И ты выбегаешь из кабинета в другой кабинет, чей владелец (о, как тебе повезло!) склоняется к невмешательству наблюдения.
Отчего-то же ты колыму перечитываешь, пуще неволи охота с растравительным расковыриванием. Не стоит прикидываться, изображая наитие. Ответ был продуман заранее, до написания текста, вынуждающего, по мере того как записывается, блюсти этикет, тянуть бечеву вопросительно-утвердительных предложений, на бумаге (экране) иначе как постепенно, под стрекотливое тиканье, не разматываемых. Ангел медлит с отменою времени, и надеяться все трудней, хотя торопиться не надо. Неминуемо каждому в его срок, вот в чем штука, не сразу для всех. А было бы справедливей, отключив, насколько позволят, часовой механизм, и ответ и вопрос напечатать не один за другим, с промежутком в минуту ли, в пять, в два часа или в целую ночь, если читатель уснул, но друг с другом вместе, как в мандате, поглощающей сроки, как в талмудическом тексте на краях с четырех сторон спрашивают, а центр, обрамленный вопрошанием, единовременно отвечает. Тогда ответ звался бы Блонский Олег. Имя ему Олег Блонский.
Я мальчишка студент, он обманчиво взрослый в городе южных мужчин: двадцать шесть — двадцать семь, двадцать семь — двадцать восемь несолидной наружности. Осень, юг или юго-восток на асфальтовом променаде, текущем в приморский проспект, перетекший в приморский бульвар, у кованых черных ворот во двор его дома. Пять этажей, поставленных пленными немцами во дворе, где мощные тополя и платаны мощной сенью своей осеняют скамейки, крикливый, заплеванный шелухою футбол, кружевную беседку, старушечье гарканье, захмелевших солдатиков — розовые, портвешок зарумянил, носы из подъезда, животных у ржавой тары для мусора, начинающего вдруг возгораться, вонюче дымить и куриться из прозы тридцатых, повывелись в парусиновых брюках, в крепдешиновых платьях, с тех и с этих пор столько лет. Каурые годы, гнедые. Чалые, потный круп и задышка. Растрепаны на ветру. Охолонув под струею из крана. Все равно, если столько с тех пор. Мы прошли этот лес, итд. Олег, мы прошли?
Блонский костляв, длинновяз, метр девяносто слабосильного тела, веселого нрава. Пропустив описание внешности: с ума сойти, в третьем послерождественском тысячелетии ничтоже сумняшеся описание внешности, сыщется ли древнее что от еги́птян, из хеттов? — колесо? воровство? — выкручусь кое-как, экономной отсылкой. Смахивал на безусого гоголя, с выбритой эспаньолкою гоголька, за вычетом роста, с учетом поправочной го́рсти вдогон. То есть ничуть и нимало алчбы, честолюбных маслин, зыркающих малоросской ехидцей, ни на ефу подозрительности и каприза, гопаковой присядки от восхищенья собой, повеления беречь себя, как сосуд алавастровый, амброзии полный, вкупе с холуйскою проскинезой, по сути издевкой — ваши ноги власами своими утру, пришлите который-нибудь из волюмов. Этого и в помине, куда там. Рассредоточен мечтательно, как бы слегка затуманен, плавные жесты плывут в голубых водянистых глазах. Но власы долговласы, портретны — до плеч. Но в лице выделяется — нос. Тот самый, спасибо дагеру. Но — адамово яблоко, кадыкаст, некадыкастые гогольки это нонсенс, от адама порода. И улыбка, бесхитростная, без подвоха.
На Олеге плащ дружественного производства, ось Восточный Берлин — Улан-Батор, болотный мешок. Залосненные панталоны, в трещинках башмаки. Еще одно с гоголем гоголька несхождение: не щеголь, не франт, единицы могут позволить себе щегольские замашки в обезвоженном крае, большинству достается болотный мешок. Из его глубины, порывшись за пазухою под шарфом, извлекает в газету завернутый, резинками перетянутый накрест кирпич, «распишись в получении», и смеется, откинув носатую голову.
Расщелкнут портфель, под ворохом всячины укутан на дне дореформенный «Мальте Лауридс Бригге» в глухом переплете, три рубля с пересохшим дыханьем и выпадением пульса в лавке на Ольгинской. «Букинический магазин», как говорил тат-иудей, пожилой человек, промышлявший колготками у платана, на ольгинских плитах, звонких плитах, звонких от женщин, от их восклицаний и каблуков. К «Мальте» в соседство — «Нильс Люне». Сочтенный безвредным, тиснут в мягком с пленочным глянцем мундире, блажь Госиздата, чтоб не печатать идейно плохих скандинавов. Я ношу их как отца и сына, в портфеле не расставаясь, всегда в портфеле со мной. Читать обе сразу, страницу из первой, страницу второй, разложив слева-справа по книге, слева направо и справа налево по способу бычьей распашки, по методу бустрофедон. Так и раскладываю, подстелив лист «Рабочего» в чайхане, куда пристрастился ходить, платя рубль за круто заваренный, рдеющий в грушевидном стаканчике, влитый из крутобокого расписного. Капельки пота на петухе, колотый сахар на блюдце. Странно, как я тогда не приметил, «Рабочий» — это же Arbeiter, о чем синим отзвучьем Юнгеров томик на полке. Немецкий рабочий известен мне сызмальства, из подаренных младшему школьнику денег третьей германской империи, на именины другом семьи. Из закопченных, бумажных, кое-где рваных банкнот, прославлявших работу. От мужчин и от женщин, блондинов, брюнетов; ошибка, будто бы только блондины, арийство также брюнеты, особенно южные земли, не меньше и северные, что представлено пропорционально купюрами. Подушечки пальцев помнят шершавую ощупь: светло-карее чувствилище силы, в комбинезонах, спецовках, в обнажающих загорелое горло рубахах, в уборочно-жатвенных платьях. Абрикосовы лица, терракота — тела. Те, кому кроме удара и вскопа плодотворить, прыскать семенем, держат на плечевых вздутиях молоты. Те, кому принимать и рожать, перетирают в ладонях колосья. Для меня несомненно сегодня: покоряющая убедительность открытых и собранных, нещадно спокойных и осиянных боковым клином тревоги, ошеломительно стойких в своем обреченном достоинстве лиц истоком имела страдание, подлинную тему портретов. До болевого края испытанное при зачатии мускульной веры, в исполинских, измерению не подлежащих объемах изведанное на закате, страдание, отложившись в чертах, двумя безднами обступило расу героев, растителей нового человечества, коим знание будущего дано не затем, чтоб сломить, это и невозможно, но дабы они напрягли волю так, как напрягают ее ни на что не надеющиеся.
Деньги облизаны пламенем. Протрещав и взорвавшись, взыграв, огонь вырвал из готовых к любым превращеньям немецких людей и предметов пергаментную, браун-коричневую мелодию, основу всех состояний в стране, твердых, жидких, сыпучих, газообразных. Эта осно́вная общность и оставалась неразложимым итогом любых превращений немецких людей и вещей. Деньги найдены в танке на Курской дуге. Молодой лейтенант вермахта погиб в битве народов, трофей, добытый на полях отрядом искателей в красных галстуках, безвозмездно отдан историку, мне, я вручаю тебе, говорил друг семьи. Постарайся сберечь свидетельство безымянного, чей путь, предназначенный к нашему с тобой истреблению, сам по себе человечен, то есть чреват язвами и хандрой, предощущением собственного непогребенного трупа, которого не коснется мед греческих бальзамировщиков, — я полагаю, что этот сгоревший удел спознался с тоскою сполна, говорил друг семьи на моих именинах, и я увидел танкиста, вижу его и сейчас. Двадцать шесть — двадцать семь, двадцать семь — двадцать восемь, возраст приблизительно Блонского. Худ, узкоплеч, молчалив, много курит, на Восточном стал тверже и мышечно загрубел. Льняная прядь над глазами, чаще смотрящими вниз, чем наверх. Никак не рабочий, инженер, архитектор, словесник — уже горячее, безусловно, надышавшийся манускриптов словесник. Того наподобие, что за четверть века до курских взметенных степей, в первую из германских убитый, вернул в толкованиях «Патмос», «Архипелаг». Острова и давильни, алтари, жернова, в гимнах вернул хоровод бесноватых богов с пьяным, обмазанным соком предтечей, по которому ежегодная скорбь и веселие, — тот словесник успел, этот нет. Не сложились слова, не легли на письмо. Чудо не дальше руки, но боги отняли у нас осязание. Дневниковые строки в перекидной, на спирали тетради, только строки, страницы развеялись. Клены, платаны в берлинском предместье прочли шесть посланий сестре. Почерневший платок, книга последнего содержания, тоже черна.