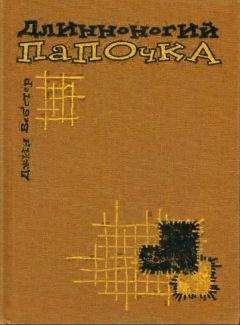Ромен Гари - Европа
Эрика повесила трубку. Да, все было в порядке.
Она выходила теперь только за продуктами. Она не могла бы точно сказать, как долго оставалась в этом добровольном заключении. Она подумала, что произошла ошибка, когда посыльный от Кардена доставил ей коробку, в которой находилось бальное платье, все сверкающее блестками, рукава которого распахнулись перед ней, как черные крылья, рассеченные серыми полосами. На карточке кутюрье значилось: «Ваш заказ от…». Она не помнила, чтобы заказывала это платье. Она подумала, что это мог быть очередной подарок Дантеса, но служащий не уходил, он ждал чека… Она позвонила в магазин, и там сказали, что она сама приходила и лично выбрала платье за десять дней до этого…
Она выписала чек без обеспечения.
Эрика села на кровать, подтянув колени к подбородку, и сидела так сутки напролет, рядом с платьем. Это платье, ее собственная форма, пустая, лежавшая, растянувшись перед ней, не было прислано от Кардена, теперь она это понимала. Оно было не от мира сего. И скоро, в этом не оставалось уже сомнений, она должна была получить новые, еще более обещающие подношения. Цветы, да, целые сады цветов, и зачем же она стала бы отклонять это приглашение на чудесную прогулку, длящуюся без конца? Ей нравился огонь, пылавший в камине большого зала, где Моцарт ожидал появления своих нанимателей, которые еще не кончили ужина. Каким он казался хрупким с этими своими узенькими плечами! А потом она вдруг заметила, что кто-то ошибся эпохой, и Моцарт был одет в костюм «Безразличного» Ватто, с этим огромным воротником из белых кружев. Сейчас за ней должны были прийти, нельзя было опаздывать, немыслимо заставлять ждать Моцарта. Лакеи в небесно-голубых ливреях, в напудренных париках будут встречать ее у дверей замка, поднимая над головой подсвечники, своими жестами наводя ее на мысли о Кокто, впрочем, это уже был анахронизм, Кокто ведь еще не родился. Если и было какое-либо правило, которому отныне она должна была следовать неукоснительно, так это именно железной логике связности событий, без отступлений, в противном случае можно было вообразить себе Бог знает что. Наконец раздались звуки музыки, но это не был Моцарт, то был Рамо. Гостей было множество, но она никого не узнала: она пришла сюда впервые. Она не знала даже имени хозяина, который устроил ей такой радушный прием; она была потрясена, когда дверь наконец распахнулась, и Эрика увидела, что это был Дантес. Выходит, ее мать была права, все эти двадцать лет говоря о нем как о демоне, способном на все, даже на эту учтивость, на эту нежность, с которой он склонился, чтобы поцеловать ей руку. Она была немного удивлена, увидев его облаченным в прусскую форму этого пропахшего порохом армейского зелено-красного цвета. Должно быть, он проходил службу под знаменами Фридриха, то был век, когда у духа не было родины. И если его еще беспокоила их разница в возрасте, он должен был почувствовать себя увереннее сейчас, когда он был на двести лет моложе. На мгновение она растерялась, когда увидела, что бальное платье все еще лежит на кровати; надо было поторапливаться, она могла опоздать, ее ведь ждали: Дантес давал этот праздник в ее честь. Она оделась и вышла. Горничная обнаружила ее сидевшей скорчившись на тротуаре, у ограды Люксембургского сада; она подумала, что Эрика наглоталась наркотиков, как это было модно у современной молодежи, и отвела ее обратно домой. Войдя к себе в спальню, Эрика поначалу испугалась, потому что бального платья там уже не было, но потом все же взяла себя в руки. Она взглянула на пустое место, подтверждавшее тот факт, что платье никогда не существовало, и тут вспомнила, что оно было на ней. Она сняла его, осторожно положила на кровать и села рядом; она решила установить неусыпный надзор за этим платьем, зная, что Дантес снова попытается убрать его: он играл с ней, хотел напугать, чтобы продемонстрировать свое могущество, всевозможными намеками давая понять, что он может точно так же убрать и ее, что он был ее полновластным хозяином, что у нее не было иной жизни, чем та, которую он ей предоставлял, что стоило ему только перестать о ней думать, как всегда, с нежностью, и она прекратит свое существование. Он играл с ней, хотел привести ее в замешательство, доказав ей свое могущество, подспудно внушая, что мог и ее заставить исчезнуть, что он был ее властелином, что у нее не могло быть иного существования, чем то, которое жаловал ей он, что достаточно было ему оборвать свои нежные думы о ней, и ее бы не стало. Дантес, в самом деле, заставил ее еще раз снять платье и долго держал ее так, раздетой. Она была счастлива подарить ему эту наготу, которой он никогда еще у нее не добивался. Она представляла его с такой ослепительной ясностью в центре мира, где все сплошь было покрыто сверкающим мрамором, что готова была броситься в его объятья, но остановилась, так никогда и не поняв, каким чудом удержалась на краю пустоты, прямо перед раскрытым окном. Уже давно был день, и стоявший грохот шел вовсе не с того света, который чуть было не поглотил ее навсегда, а был всего-навсего обычным будничным шумом, доносившимся с улицы Гинмер. Жард объяснил ей потом, когда она примчалась к нему несколько часов спустя, что, весьма вероятно, ее спасла собственная усталость, достигшая в этом бреду крайнего предела, и реальному миру удалось удержать ее и вернуть к себе, как раз с помощью того, что было в нем самого надежного — слабости, которая подрезает крылья заоблачным мечтам. Но он ошибался. Тем, что помешало ей переступить эту черту, в то время, когда ничто, казалось бы, не должно было дольше удерживать ее здесь, было лицо ее матери. Она не имела права покинуть ее. Она взяла себя в руки, чувствуя в себе яростную энергию тех, кто отказывается потакать тоталитарным режимам, играющим на человеческой слабости. Она не слишком много знала о тех юных участниках Сопротивления, которые когда-то поднялись с голыми руками против нацистской Германии, и поддерживала их лишь воля не сдаваться, но Дантес был как раз из их числа и даже как-то рассказывал ей об этом, шепотом, полным непреклонного достоинства, которое появляется у людей, когда они черпают воодушевление в собственном воображаемом величии духа.
Он стоял под луной и чувствовал, как поглощает его тишина парка, где в этот темный час, от которого у него перехватывало дыхание, все казалось уже сыгранным. Он не видел больше напротив, над неясным сумбуром теней, на балконе виллы «Италия», красную точку сигары Барона. Возможно, он ее вообще никогда не видел, так как в его усталых глазах, воспаленных от бессонных ночей, все было одновременно погружено во мрак и пронизано резким светом. Нужно было остановить воображение, перестать присваивать лица бесплотным химерам, не давать себе пользоваться собственным нервным истощением, чтобы упиваться невидимым. Нужно было собраться, напомнить себе, кто он такой, свои обязанности, все эти давно установленные формальности, удобный распорядок, весь этот механизм хорошо заученного поведения, которое заливалось в вашу обычную болванку, передаваясь из поколения в поколение карьеристов, вместе с планом стола, где указывалось, куда каждому следует садиться, поджав хвост.
Все вокруг казалось Дантесу раздробленным, вплоть до самого неба, где он отчетливо видел некий зазор, очень ясно обозначенную трещину. Во всем царил раскол, не скрывая более своего господства, видимый теперь невооруженным глазом: все, что было единым, разъединилось. Ясно видна была серебристая линия разлома, рассекавшая озеро посередине, перескакивавшая на берег и продолжавшая по кривой пробираться сквозь зеленые массивы парка. Она жестко отделяла геометрическим ножом культуру от грязного и кровавого реального мира, искусство от реальности и Дантеса от него самого.
XXIII
Во время своих встреч с Эрикой Дантес никогда прямо не заговаривал о том, что ему известно о приступах Ma: и тем не менее она знала, да он этого и не скрывал, что он провел целое расследование насчет «племени». Он старался избегать грубости, никогда не произнося слово «безумие». Иногда бывает трудно разобраться в словах мужчины, которого любишь, когда он начинает говорить с вами не о вас и не о себе самом, а о чем-то другом, тогда как для вас это другое не имеет ровно никакого значения. Но Эрика чувствовала, что за этими его абстрактными отступлениями и общими местами стоит некая ненавязчивая предосторожность, намек на роль собственной воли и продуманного выбора в некоторых формах невменяемости, все эти аллюзии, которые в мыслях у него напрямую были связаны с Эрикой, даже больше, чем с этой Европой, о которой он грезил и в которой души не чаял.
— Натуры слишком чувствительные, и потому особенно уязвимые, испытывают непреодолимую потребность положить конец… Те, кто наиболее остро сознавали, чего от них требует культура — изменить мир, — почти всегда оказывались и самыми слабыми… Ноша казалась им слишком тяжелой и ломала их еще до того, как они поднимали ее. Человеческое, слишком человеческое, говорил Ницше, и это человеческое совершенно естественным образом превращалось в мечту о твердости, о непробиваемой броне: фашизм и сталинизм были тут как тут и всегда готовы оказать неоценимую услугу… Каждый раз, как красота с высоты воображаемого трона принималась предписывать Европе свою этику, вынуждая ее, таким образом, проживать свои мифы, Европа предпочитала уйти в безумие и не взваливать на себя этот груз, или же она начинала искать защиты от «дурманящих песен сирен» собственной культуры под панцирем тоталитаризма. На недавнем Съезде советских писателей в семьдесят первом этот щит получил еще большую прочность: запрет говорить о чем-либо, кроме «достижений советского человека», иными словами, запрет говорить о человеке вообще…