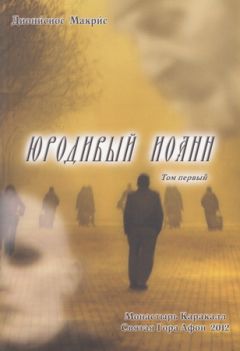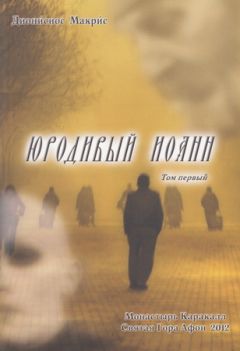Илья Константиновский - Первый арест
Пока мы ждали, привели еще двух человек из тюрьмы; их тоже ввели к прокурору раньше нас, и оба они вышли оттуда с застывшими лицами и вытянутыми по швам руками; один из них беззвучно шевелил губами, мне показалось, что его душили рыдания.
Наша очередь наступила, когда на дворе уже стемнело и в коридоре зажглось электричество. Я вошел в кабинет первым, и состояние у меня было такое, точно в комнате стоял туман. Сквозь туман я увидел большой дубовый стол, за которым сидел прокурор. Сквозь туман смотрел на меня со стены семилетний король в военной форме, увешанный орденами и медалями. Но живой человек, сидевший за столом, на меня не посмотрел – он смотрел только в бумагу, лежавшую перед ним на столе, и что-то писал. Стол его был весь завален папками, книгами в черных переплетах и канцелярскими принадлежностями. Я разглядел также маленькое резное распятие. Но деревянный Христос, увенчанный терновым венком, бывал ему, по-видимому, нужен не так уж часто, и он засунул его в самый дальний угол стола, где стояла стеклянная мухоловка, наполовину наполненная водой. Христос видел бьющихся о стекло и тонущих мух – людей он также не видел.
Сидевший за столом человек, от которого зависела моя участь, был молодой и красивый, сердитый и важный. Так и не взглянув на меня и продолжая что-то писать, он прочел мне длинную нотацию. Гимназист должен учиться и слушаться учителей, так же как учителя должны слушаться своего начальства, начальство в свою очередь должно слушаться короля; сам король тоже слушается господа бога; таков закон, который правит миром; все должны слушаться, все должны подчиняться и строго следовать установленному порядку. Все это он говорил не запинаясь, как затверженное, и при этом не переставал что-то писать и макать в чернильницу свою блестящую черную ручку. И все, что он говорил, всегда, еще в раннем детстве, вызывало во мне смутный, не вполне осознанный, но явный протест. Все дети, открывая мир, задают старшим на каждом шагу один и тот же, но всегда новый, всегда волнующий вопрос: почему? В мое время, в моей среде всем детям отвечали на это одинаково: так дoлжно! На все вопросы я всегда получал от отца один и тот же ответ: есть, был и будет от века и до века единый бог, создавший мир и людей и порядки в мире; есть, были и будут солнце, луна, звезды, Дунай, богатые и бедные, злые и добрые, полицейские и перчепторы1, и с этим нельзя спорить, – можно только усердной молитвой и соблюдением определенных правил вымолить себе несколько лучшую долю, если не здесь, на земле, то уж во всяком случае в загробной жизни… Эти незыблемые, не подлежащие обсуждению истины всегда вызывали во мне смутное ощущение неправды и неблагополучия. Почему все это так и не может быть иначе? Почему все это есть, было и будет, если это зло?
– Меня избили в полиции… – неожиданно для самого себя сказал я громко и стал ждать, что будет.
Он перестал писать и задумался. Я решил, что он собирается ответить, но никакого ответа не последовало. И только тогда я очень ясно ощутил, что я для него не существую. Существуют протоколы, чернильница, ручка, которой нужно что-то писать, существуют эти толстые тома, очевидно свод законов, но меня нет. Я отчетливо видел, что он держит в руках именно мое дело, что-то из него выписывает, ставит точки и запятые, но ко мне это не имеет никакого отношения.
– Черт знает что такое! – заговорил он снова вслух. – За две недели тридцать арестованных! Тюрьма переполнена, а тут еще, пожалуйста, ученики и черт знает кто!
Через много дней я понял, что в этих словах и был ключ к разгадке всего того, что случилось со мной после ареста. Следствие по делу Макса и других коммунистов было давно закончено, и то, что полиция собиралась приплести к этому делу с большим опозданием и учеников, не вызвало одобрения в прокуратуре. Такая история была в тот момент невыгодна властям, газеты могли раздуть ее, и создалось бы впечатление, что гимназия заражена коммунизмом. Вот почему комиссар с наглыми глазами оставил меня в покое после первого же допроса, а прокурор тоже смотрел теперь на меня как на ненужный ему, отработанный материал. Но он не только не счел должным сказать, что меня освобождают, а, наоборот, всем своим поведением создал у меня впечатление, что я попаду отсюда только в тюрьму. Делал он это, очевидно, по привычке,- так он поступал всегда, со всеми арестованными, так поступил и со мной, ни разу не взглянув мне в лицо Покончив с моим делом, он отослал меня в коридор к полицейскому и вызвал Леонида.
Ему он тоже читал нотацию – я слышал его сердитый механический голос. Потом снова вызвали в кабинет меня. Теперь, когда положение определилось, я был почти спокоен.
– Подпишитесь!
Мы подписали протянутые нам бумаги.
– Можете идти!
Все. Теперь нас уведут в тюрьму. Леонид стоял бледный, без кровинки в лице, и я видел, как дрожат его бумажно-серые губы. Только бы он выдержал, подумал я и тронул его за руку, показывая, что надо идти. Мы повернулись и вышли в маленькую комнатушку, где ожидали решения своей участи. Но полицейский почему-то за нами не пошел. Мы остановились и стали ждать. Прошло несколько минут, а его все не было. Наконец открылась дверь, и он вышел из прокурорского кабинета, держа под мышкой свою папку, и, даже не взглянув в нашу сторону, прошел в коридор и исчез: для него мы тоже больше не существовали. В это мгновение я все понял: мы свободны!
Когда мы очутились на улице, Леонид остановился, словно проснувшись от сна, молча пожал мне руку и, не говоря ни слова, быстро пошел прочь. Я видел, как он свернул в переулок и исчез. Я остался один.
Был теплый и неподвижный июньский вечер. Улица казалась тесной от тополей и акаций, вытянувшихся вдоль желтых домов. Я смотрел на нее в каком-то странном оцепенении, ни о чем не думая, ничего не желая. Вдруг я почувствовал дуновение чуть-чуть влажного ветерка и смолистое благоухание деревьев, увидел огни фонарей и фигуры прохожих, услышал шаги, голоса и скрипучие грустные звуки граммофонного вальса, доносящиеся из открытого окна соседнего дома. Все это я почувствовал, увидел и услышал не сразу, а постепенно, как человек, который медленно просыпается. Сначала ко мне вернулось зрение, потом слух и обоняние. Подняв голову, я, как всегда, поискал глазами Большую Медведицу, потом еще заметный Алгол, мерцающий над второй яркой звездой ее хвоста, и Полярную, которая должна была находиться правее и выше, у пересечения двух линий, мысленно протянутых от оси Большой Медведицы. Вот она! Все в порядке: небо такое же, как всегда, за эти дни ничего не изменилось. И я почувствовал, что то, что произошло со мной в трибунале и полиции, отодвинулось куда-то далеко-далеко, как будто это происходило не со мной, и не здесь, в этом привычном и незыблемом мире.
Я шел по улице, все еще ни о чем не думая, но чувства мои были обострены, и я впитывал в себя все окружающие звуки, цвета, запахи с какой-то удесятеренной, необычайной силой.
Меня бессознательно тянуло к центральным улицам, к шуму и свету, к таинственно блестевшей под огнями фонарей темной листве парка, к грохоту полковой музыки.
Парк встретил меня блеском огней, одуряющим запахом левкоя и табака, смехом и бестолочью толпы гуляющих по узким, посыпанным желтым песком аллеям, громовыми литаврами и барабанной дробью военного марша Шуберта. Я свернул в знакомую темную аллею и сразу же увидел однокашника: маленького Озуна, сидевшего в классе через одну парту от меня.
– Послушай, это ты, да? – сказал он нерешительно, как говорил всегда, когда его вызывали к доске. – А нам сказали, что тебя арестовали… Как же ты пришел в парк?
Я посмотрел на его чистенькую, аккуратно выутюженную форму, на нежное конфетное личико, на удивленные глаза и почувствовал: он так далек от всего, что я пережил, что объяснения бесполезны, – он их не поймет. Да он их и не требовал. Схватив меня за руку, он принялся торопливо рассказывать новости, радуясь, что он первый сообщит мне все, что случилось в классе в мое отсутствие; он рассказал, кто какие отметки получил по французскому письменному, кто «срезался» на речи Цицерона о Катилине и кому угрожает передержка по истории. Он сказал, что у него самого дела блестящи: шестерка по латыни и семь по французскому письменному, а вот Дебеняк схлопотал двойку и с досады поставил Шварцу фонарь под левый глаз; а Гарина застукали в кино, на шестой серии Мачиста, это там, где Мачист поднимает одной рукой и бросает в реку будку с бандитами…
– Да, чуть не забыл! – спохватился он вдруг и снова нерешительно, как в начале встречи, сказал: – Тебя исключили из гимназии…
– То есть как это «исключили»?
– Очень просто. Позавчера был учительский совет. Добреску все рассказал дома Марину, а он нам… Только Татович был против, а все остальные – за. В общем, тебя исключили… Постой, куда ты? Я забыл тебе сказать, что завтра последняя контрольная по математике. Ты не придешь? Ах, да… Что же теперь ты будешь делать? …Я вышел из парка и снова, как на пороге здания трибунала, когда впервые почувствовал, что свободен, остановился в каком-то оцепенелом состоянии. Я не испытывал ни тоски, ни страха, ни возмущения перед этим новым обрушившимся на меня ударом. Проходя мимо витрины часовой мастерской, я машинально отметил, что большие часы показывают всего лишь четверть одиннадцатого. «Еще успею помыться!» – подумал я и посмотрел на свои давно не мытые руки с черневшей под ногтями невычищенной грязью. Навстречу мне подул ночной ветерок и подхватил, унося куда-то в сторону, грохот полковой музыки, неотступно следующий за мной от самого парка.