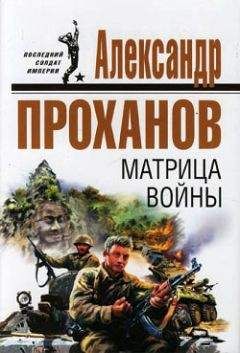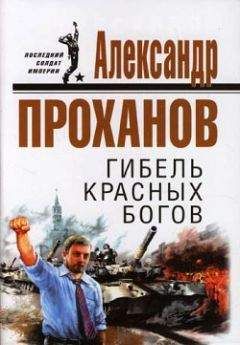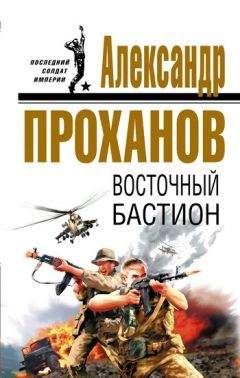Александр Проханов - Выбор оружия
Ворота виллы открылись, и красный «Форд» выехал в город.
Они катили медленно по освещенным улицам. Несколько раз останавливались под фонарями. Проехали «Гранд-отель», задержавшись перед порталом. Демонстрировали себя, показывались тем, кто должен был заметить отъезд из города красной машины, тучного бородача на переднем сиденье, охранника с автоматом. Проехали освещенный центр, тусклые предместья, вырвались на открытое шоссе и помчались в ночном мягком шелесте.
Белосельцев тревожно всматривался в обочины. Но там, в темноте, размыто бежали кусты и деревья, не было видно огней, не было признаков человеческой жизни. Постепенно тревога отодвинулась, превратилась в едва ощутимое душевное смятение. Высохшая краска стягивала кожу лица. Рука касалась прохладной стали автомата. Мягко зеленели циферблаты на приборной доске. Темным массивом возвышалась впереди голова учителя Питера.
– Можно поспать, – сказал Аурелио. – На рассвете сделаем остановку, позавтракаем. Нас встретят проводники.
– А я уже почти задремал, – отозвался Питер. – Хорошо, когда темно и мягко шумит мотор.
Белосельцев пытался заснуть, но душевное смятение оставалось. Машина летела по ночному трансафриканскому шоссу Каир – Кейптаун, и ее шелестящий полет был неостановим. Обгоняя их, в ночном эфире несся сигнал, оповещавший о движении машины. Из укрытия на обочину выходили стрелки, клали на землю трубы гранатометов. Всматривались в ночь, ожидая далеких огней. И то, чему надлежало случиться, было неотвратимо.
Он увидел огонек зажигалки, осветивший смуглое лицо Аурелио. Красная бусина у его губ разгоралась, и тогда становились видны негроидные губы, приплюснутый нос, выбоина на щеке.
– Не спите? – спросил он Белосельцева. – Завтра будет тяжелый день. Надо немного поспать.
– Вы ведь тоже не спите.
– Я вспоминаю, как ночью мы уплывали на Кубу из Никарагуа на самоходных баржах. Впереди была неизвестность. Родина, дом, предстоящий бой и возможная смерть. Были предчувствия. Были надежды. Были звезды. Сейчас я стал старше, черствее. Но испытываю нечто похожее. С годами тело забывает усталость, раны, страдания. Но душа не расстается с предчувствиями, ими живет.
Красные нити летели в ночи за стеклом, словно трассеры, прочерчивали траекторию. Мягко ревел ветер в растворенном окне, бархатно касался лица. Они были вместе, рядом, в тесной капсуле, несущейся сквозь ночную Африку, соединенные на краткое время опасной хитроумной задачей, породнившей их.
– Мы жили в казарме на берегу океана, готовились к десанту. Несколько самоходных баржей стояло под кручей. Весь день мы грузили на них топливо, боеприпасы, крепили на носу пулеметы. Мы должны были за ночь пересечь залив и высадиться на Кубе до восхода солнца. Я выходил на обрыв, смотрел в сторону Кубы, и мне казалось, что из моего сердца вырывается тонкий луч, летит через море, проникает в наш маленький дом, где мама, папа, сестренка. Мама слышит мою весть, поворачивает лицо в мою сторону.
Искры от сигареты снова мелькнули, будто слова Аурелио превращались в красные нити. Некоторое время летели рядом с машиной, а потом отставали, жили отдельно среди ночных африканских лесов.
– Мы шли в ночи на баржах. Звезды в тумане. От моторов светящийся след. С каждым поворотом винта все ближе родина, все ближе бой. Наш командир Гонзалес сказал: «Впереди нас ждет сражение. Не все доживут до победы. Кто доживет, приглашаю к себе домой. Восславим победу, помянем мертвых героев». Я сидел на носу, за ручным пулеметом. Увидел, как впереди осветилось море, словно поднялся лунный туман. По воде, прозрачная, босая, с распущенными волосами, шла женщина. Мне показалось, что это мама превратилась в столб света, ведет меня к дому. Командир Гонзалес сказал: «Это Дева Мария, ведет нас к победе»…
Ветер срывал с сигареты тонкие красные нити. Это был их след в мироздании. Две их жизни промелькнут, как две искры, и погаснут в огромной ветреной вечности.
– Тонкая желтая заря появилась над морем. Еще горели звезды, еще светились морские водоросли, но уже заблестела тонкая, как желтая лента, заря. На этой заре, неровный, волнистый, чернел берег Кубы. Наш десант разделился. Веером, в разные стороны, баржи разошлись, и каждая со своим отрядом направилась к побережью. Мы шли с большой скоростью на плоскую отмель. При свете зари был виден берег, тонкий тростник, маленький холм, похожий на черный камень. Мы выскользнули на песок, соскочили на сушу, стали выталкивать баржу из прибоя. В черном камне заискрило, как колесико в зажигалке. Навстречу нам помчались колючие иглы. Несколько наших бойцов упало. Командир Гонзалес рухнул на дно баржи с пробитой грудью. Это был дот прибрежной охраны…
Белосельцеву казалось, что Аурелио рассказывает эту повесть, боясь, что, нерассказанная, она умрет вместе с ним. И никто никогда не узнает, какая желтая, тонкая была над Кубой заря, какой сочный, шуршащий звук издало днище баржи, выскальзывая на мокрый песок, какое маленькое рваное пламя вырывалось из пулеметного рыльца. Колючий пунктир прокалывал тростники, летел к барже, и пробитое тело Гонзалеса упало на дощатое днище. Он рассказывал эту повесть, надеясь, что она отпечатается в другом человеке, как папоротник на камне, и удержится в мире, когда его самого не станет.
– Командир умирал. Небо быстро светлело. Пулемет в бойнице работал, и наших на барже становилось все меньше. Командир мне сказал: «Пойди и взорви этот дот. Ты самый молодой. У тебя нет жены и детей. Если тебя убьют, не останется вдовы и сирот. Нельзя допустить, чтобы наша атака захлебнулась. Возьми гранаты, подберись к доту и кинь в бойницу. Дева Мария тебе поможет…»
Рассказ Аурелио был притчей, обращенной к нему, Белосельцеву. В этой притче таилось наставление, хранился урок, сквозило объяснение того, почему они мчатся в африканской ночи, зеленеют циферблаты на приборной доске, понурилась на переднем сиденье голова учителя Питера и высохшая черная краска стягивает скулы и лоб. Давнишний бой, один из бесчисленных за все века на земле, таил в себе истину, кочующую из войны в войну, из сражения в сражение, из смерти в смерть. Белосельцев догадывался об истинном содержании притчи. Видел, как пульсирует пулеметное пламя, мчатся длинные красные искры, белеют свежие щепки на расколотой бортовине баржи. Но это Аурелио стряхивал пепел в окно, и ветер вырывал из сигареты длинные нити.
– Я взял две гранаты и пополз к пулемету. Я вдавливался в песок, укрывался в каждой ложбинке и лунке. Хотел превратиться в тростник, в пустую ракушку, в скелет мертвой рыбы, лишь бы обмануть пулеметчика. Я молился Деве Марии, маме, светлому небу, гнилой доске, ушедшей в песок, старому якорю с обрывком цепи. Наверное, передо мной возникло облако света и сделало меня невидимым для стрелка. Я дополз до бойницы и кинул гранату. Не увидел взрыва. Пуля попала мне в голову. Я вышел из госпиталя, когда Куба стала свободной. Принял участие в празднике Победы и в поминках командира Гонзалеса…
Аурелио замолчал, выкинул окурок в окно, и он упал на шоссе, рассыпался на мелкие искры.
Притча, которую услышал Белосельцев, была о жертве, которую люди приносят во имя победы и Родины. Дремлющий впереди африканец был готов принести эту жертву. Тот Невидимый, Вышний, кому она приносилась, мог ее не принять и отвергнуть. Это значило бы, что задуманная операция провалилась, все их старания напрасны. Но незримый Бог мог направить с небес посланца, схватить эту жертву, унести в свой чертог. И это значило бы, что их план удался. Боевая операция, которую они замышляли, включала в себя языческое жертвоприношение, и они оба тайно желали, чтобы Бог не отверг их жертву.
– Пока у народа есть люди, готовые приносить жертвы, народ никогда не убьют. Есть история исчезнувших народов. Тех, среди которых перестали появляться герои.
Они мчались по шоссе под звездами, и казалось, машина отрывается от асфальта, летит над вершинами африканских деревьев, в размытом блеске небес.
Вновь медленно опустились на асфальт, но теперь катили не по трассе Каир – Кейптаун, а по тихому московскому переулку, знакомому с детства, со старомодными домами с обшарпанными фасадами, на которых вечерами оранжево светились окна, и на старой колокольне, на куполе, росло хрупкое карликовое деревце. Свернули в проулок, где качалось на веревках выстиранное сырое белье, лаяли собаки, сидели на лавочках московские старики и старухи, и он, мальчик, с тяжелым портфельчиком пробирался дворами в школу, мимо парка, выросшего на месте старого кладбища, мимо пруда, в котором плавали утки, и вода в утином пуху кругами ударялась о берег. Но вместо красной кирпичной школы, которая должна была появиться из-за высоких деревьев, они почему-то выехали на Садовое кольцо, весеннее, с влажным асфальтом, по которому катили голубые троллейбусы. Он ехал на троллейбусе к деду, оглядывая зеленые пушистые бульвары, ожидая увидеть знакомый дом с колоннами и коринфскими капителями. Там, высоко, в своей прокуренной комнате, сидел дед в продавленном кресле, с пахучей папиросой, среди картин, из которых одна выделялась своей фазаньей пестротой и радостным сумбуром. Но дома с капителями не было. Он пешком шел по сырому бульвару, под мокрыми кленами с льдистым голубым фонарем, памятник Ватутину казался отлитым из черного стекла, и площадь впереди казалась огромной зажженной люстрой, в которой отражался дождь. Его удивило, что вместо улицы Достоевского, по которой катил медлительный скрипучий трамвай, роняя на повороте медную искру, удалялся вдоль просторных зданий чахоточных клиник, где в голых деревьях кричали ночные вороны, он вдруг очутился среди московской метели, колючего яркого ветра. В ряд стояли каменные красные церкви, золотились кресты, снег белыми мазками нарядно лежал на золотых куполах, и сверху, с крестов, с куполов, сыпалась в глаза сияющая метель. Он шел по улице к Красной площади в неведении того, что влекло его сквозь сугробы, в которых от его шагов оставались глубокие голубые следы. Неведомое было близко, ожидание было счастливым. Он обогнул палаты из потемневшего камня с глухим водостоком, на котором висела разноцветная, в переливах сосулька. Из этой сосульки, из ее золотых и зеленых искр, из красных и голубых мерцаний, возник Василий Блаженный. Огромный, яркий, на черной брусчатке. Среди куполов качались огромные душистые подсолнухи. На храме, как на разноцветном гнезде, накрывая каменные раскрашенные яйца распушенными крыльями, сидела чудесная птица. Смотрела на него, подходящего, голубыми глазами. Упираясь в брусчатку длинными птичьими ногами, поднялась, опустила до земли маховые перья. И он увидел, что это ангел, огромный, до неба, с материнским лицом, в синем платье, которое он так любил. И такая радость от встречи, такое ликование среди весенней Москвы, словно это видение рая. Ангел с материнским лицом вводит его в райский сад из каменных цветов и душистых подсолнухов, и он знает, что Москва – это рай, место нескончаемого счастья, где вечно его будут любить и лелеять.