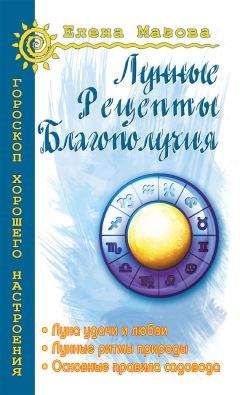Вадим Левенталь - Маша Регина
И на этом, заметь, история не заканчивается. Потом уже, когда я была здесь, и он мне написал, что это его роль, что он даже на рисунках моих похож на Макса, что клевый сценарий, что покажет его одному человеку, а я бы пока подумала, подходит ли он мне, я ему честно ответила, что если, типа, вдруг окажутся деньги, то другого актера и желать было бы нечего, но что снимать я буду с моим парнем, с тобой то есть, товарищ храп, и что если он намек понял, то, может, и не стоит ему беспокоиться и все дела. Блядь, благородная душа, учись, Евгеньев! Знаешь, что он мне написал? Что то, что было, было нелепой, хотя и счастливой случайностью! И что — записывай! — сохраняя в душе память о первых днях нашего знакомства как одно из самых дорогих воспоминаний его жизни, он тем не менее надеется, что в дальнейшем наши отношения будут развиваться максимально плодотворно, не выходя, впрочем, за рамки профессиональной сферы! Ты понял, Евгеньев, как с девушками надо? Дура! проститутка!
Ну и что, ты действительно думаешь, что я должна была тут же все тебе рассказать? Знаешь, Рома, мне тут дали денег на фильм, и еще замечательный актер нашелся, я, правда, с ним переспала, но не парься, я больше не буду, обещаю. Ты вообще себе представляешь такой разговор? Кроме того, ты же должен понимать, что тебе пришлось бы тогда остаться в Питере. Ну или мне отказываться от фильма, но я бы по-любому не отказалась. А мне вообще-то хотелось, чтобы именно ты снимал. И потом, да, Петер хороший мужик, но мне не хотелось с тобой расставаться, вообще не хотелось. Я тогда думала в том духе, что ну вот мы с тобой ругаемся иногда, миримся, кричим друг другу, чтоб катились на все четыре стороны, ссоримся из-за хрени какой-нибудь, потом трахаемся и все забываем… Ну и что, в общем, это нормально. Все так живут, да? И все эти счастливые парочки, к которым ты приходишь в гости, милая, дай гостям тапочки, дорогой, поставь чайник, смотрят влюбленно друг на друга, показывают тебе, какие они счастливые вместе, ведь это всегда так бывает, и мы себя так ведем. А на самом деле час назад эти голубки планировали друг друга зарезать. Так люди-то и живут. И не потому, что они, суки, такие лицемерные, а потому, что иначе было бы невежливо. В общем, это действительно неизбежно. Вот я жила два года с Лешей. Он старше меня, умнее, тогда — особенно заметно было, и вообще спокойный как слон, но все равно же мы с ним срались. Не так, конечно, как с тобой, ну, разойдемся там по квартире или уйдет кто-нибудь погулять. Это не какая-то глобальная вещь, все ведь всегда бывает из-за ерунды. Понимаешь, кого-то в детстве учили, что надо за собой крышку унитаза опускать, кого-то — нет. А люди из этого делают вывод, что они друг другу не подходят. Ну не бином же Ньютона, все это знают, даже если не говорят, поэтому и продолжают все-таки жить вместе. Прости, что я тебе ерунду несу. Я все к тому, что у меня уже не было тогда иллюзии, что вот я найду такого парня, с которым можно будет жить душа в душу и ни разу не сраться. Я думала об этом очень серьезно перед «Минусом» и решила, что я тебя люблю и бросать не хочу.
Разве плохо было? Ты же первый кричал, что ура-ура, наконец-то серьезная работа, да еще за нормальные деньги. Не знаю, в общем, если серьезно сказать, то единственное, в чем я реально виновата, это что не сумела оставить тебя в счастливом неведении. Я на самом деле так и не знаю, как ты догадался. Сказал тебе кто-нибудь? Да, вроде, некому было, никто не знал. Что Петер тебе сам сказал, я что-то не верю. Господи, счастье, что это хоть под конец случилось, а то вообще фиг знает, что бы было. И не потому, что ты бы ушел из картины, думаю, что не ушел бы. Просто я тогда вообще с тобой не справилась бы. Ты и так решил, что я тебя презираю и считаю говном, так мне не нравится, так не нравится. Рома, это же нормально! Это нормальная работа оператора и режиссера. Оператор предлагает, режиссер говорит нет, у меня своя картинка, у тебя своя, — это, типа, творческий поиск, на то и кино, а режиссер на то и режиссер, что за ним последнее слово. А ты вообразил, что я тебя чуть ли не разлюбила и таким образом даю тебе это понять. Да если бы я тебя разлюбила, я бы тебе тут же, не отходя от кассы, так и сказала бы. И скажу, если что. Я вообще честная, сука, как советское правительство.
А ты говоришь — могла бы хоть соврать. Ну вот представь: ты приходишь ко мне и на полном серьезе спрашиваешь, спала я с Петером или нет. И я, значит, должна была сделать хвост пистолетиком и сказать, господь с тобой, Ромочка, что за мысли у тебя в голове! Ну это же бред! Ты сам понимаешь, что это бред? Все равно я бы не смогла тебе так соврать, чтобы ты поверил. И не потому, что я хуевая артистка, уж на это-то меня хватило бы. Просто если такие мысли завелись, то это как кариес, понимаешь, ты сам не смог бы мне поверить, даже если бы очень захотел. Если уж ты реально хотел, чтобы я тебя обманула, нужно было тогда не спрашивать.
Короче, я не знаю, Рома, в чем прикол. Мне кажется, что это какая-то изначальная порча. Просто с самого начала все идет вкривь и вкось, и ничего ты с этим не сделаешь. Может, все было бы по-другому, если бы ты тогда, я имею в виду, вообще давно, не стал бы выпендриваться, а просто переспал бы со мной, маленькой провинциальной влюбленной дурочкой, — не знаю — разбежались бы, может, а может, жили бы долго и счастливо. Это я не к тому, чтобы повесить на тебя что-то, ты знаешь, у меня бзик на этом. Конечно, ты ни в чем не виноват, ну не хотел и не хотел, подумаешь. Вообще никто не виноват, это чертова жизнь так устроена и все тут. Где-то с самого начала что-то сломалось. Может, еще до нашего рождения. И ты видишь это, пытаешься исправить, говоришь себе: эта хуйня со мной никогда не случится! — и как только пытаешься сделать шаг в сторону, оказывается, что в этой-то стороне вся хуйня и есть. Кто поумнее сказал бы, что это судьба. Хуйня это, а не судьба, нет никакой судьбы. А есть просто логика. Вот такая хуевая, но логика.
Только не надо мне говорить, что я тут разошлась. Ну разошлась, но ты сам виноват, если б не ты, я бы не напилась так, чтобы тут тебе сочинять монологи с матом. Что ты, благородный дон, сделал-то? Ты же не пошел, не убил Петера, не бросил работу, не уехал, меня не убил, не сказал, чтоб я шла куда подальше. И правильно. Правильно, понимаешь, я ничего не могу сказать. У нас контракт, работа, картина почти доснята. Если б ты взбрыкнул вдруг, вот тогда ты был бы идиотом. Но ты молодец, покуражился, набухался-наорался и за работу. Я даже думаю, если честно, что ты специально ждал конца съемок, чтобы не пришлось ставить перед собой вопрос ребром — тварь, типа, я дрожащая или уеду щас в Питер. Потому что тогда пришлось бы уехать, а тебе этого не хотелось, ты же не мог не видеть, что картина в общем складывается.
Вот видишь, опять получается так, будто я тебе рассказываю, какой ты подлый и расчетливый. Я совсем не это хочу сказать. Я хочу сказать, что это такие танцульки, если уж ввязался в них, то будь добр — две шаги налево, три шаги направо, других вариантов просто нет. Противно только, что ты не сам в них ввязываешься, а такое ощущение, что это они тебя в себя ввязывают. Не ты живешь эти сюжеты, а они живут тебя, понимаешь? Если всерьез об этом думать, то возникает вопрос — а ты сам-то где? Если ты начнешь последовательно вычитать из себя все то, что не есть ты — сюжеты, тебе навязанные, чувство вины, в которое тебя вталкивают, вера, которую тебе прививают, я не знаю, любовь к родине, книги, которыми ты пропитался, вот это все, — то в конце концов получается странная вещь: тебя-то и нет! Никак ты не обнаруживаешься, за что ни схватись, все откуда-то в тебе поселилось. Ну вот мясо твое, кости, кровь, жилы, кожа, но и это-то, если уж так смотреть, тоже — все, что ты когда-нибудь съел.
Я об этом думала, когда в Берлине осталась монтировать, а ты улетел. Они там что-то намудрили с контрактом, на монтаж было запланировано в два раза больше времени, чем надо, — то ли перестраховывались, то ли и в самом деле думали, что я еще не знаю, в каком порядке сцены идти будут, в общем, у этих немцев иногда не меньше распиздяйства, чем у нас. Я не стала строить из себя стахановца, приходила на студию к восьми, мы там сидели с Мартой, что-то делали до двух, а потом я уходила. Знаешь, Берлин весной — это что-то совсем особенное. Он реально весь пахнет сиренью, куда ни пойди. Я еще вырвалась наконец из гостиницы, сняла квартиру на Пфлюгер-штрассе, в Кройцберге — восточный Берлин, что ни говори, все-таки симпатичнее западного. Мне в какой-то момент начало казаться, будто я зажила обычной жизнью простой Гретхен, офигенное ощущение — встаешь, идешь в булочную, потом добираешься до студии, что-то там режешь, склеиваешь без суеты, потом обед, идешь по магазинам еды купить, готовишь что-то дома. Я даже телевизор начала смотреть.
Ты, наверное, думал, что раз уехал без окончательного объяснения, так я мучиться буду, страдать от неизвестности и все такое. А я впала в такое умиротворение, не знаю, мне ничего не надо было, только гулять вот так по городу, лежать на газонах, смотреть на народ, заходить в магазинчики, работать по чуть-чуть. В общем, что-то в этом есть. Если б ты приехал тогда, я бы тебе сказала: расслабься, чувак, это все такая фигня, представь, как ты все это будешь вспоминать через сорок лет, когда тебе будет семьдесят, тебе будет не до секса, лишь бы попить чего-нибудь тепленького, ведь вспомнишь это все с улыбкой — не брезгливой, а, ну, благословляющей, что ли, что вот был ты такой молодой и так волновался из-за того, кто с кем спит, знаешь, посмотришь на мальчиков и девочек, которые будут обгонять тебя на улицах, и порадуешься за них, что у них все играет, что у них в запасе еще столько времени. Ну, короче, я будто резко превратилась в такую добрую старушку, только что голубей с кошками не кормила.