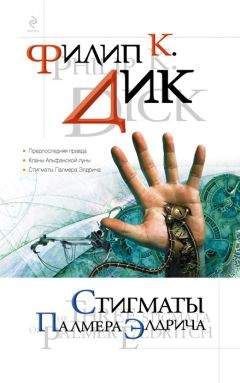Филип Рот - Профессор Желания
Когда часы бессонницы заканчиваются (хотя мне кажется, будто они не закончатся никогда), все мои безутешные мысли слипаются в комок одного-единственного, ничего не значащего, не постижимого умом слова, и это слово никак не отпускает меня. Чтобы освободиться от безвкусного гнета, я принимаюсь бешено вертеться на диване. Странное чувство завладевает мной: то ли мне недавно вкатили порцию обезболивающего и его действие начинает сказываться, то ли, наоборот, общий наркоз постепенно сходит на нет и я медленно и со страхом прихожу в себя под ослепительными лампами операционной (такое было со мной единственный раз, в двенадцать лет, когда мне удалили аппендикс), и это состояние длится до тех пор, пока набравшее силу и смысл слово не превращается в читаемый слева направо набор литер на клавишах, на которые нужно опустить кончики пальцев, готовясь печатать на пишущей машинке, чему учила меня когда-то на гостиничном электрическом «ремингтоне» мама. Но сейчас, когда мне уже известна эта абракадабра, не имеющая ничего общего с алфавитом, дело обстоит еще хуже, чем прежде. Ибо теперь мне кажется, что это и впрямь самое настоящее слово, заряженное страданием и живущее своей собственной жизнью. Но и моим страданием, но и моей жизнью тоже. И вдруг я вижу себя в яростной схватке с отцом за право высечь на мамином могильном камне ту или иную эпитафию: он настаивает на ее имени, а я — на бессмысленном наборе букв, представляющем собой визитную карточку профессиональной ремингтонистки.
Заснуть мне не удается. Интересно, думаю я, вернется ли ко мне когда-нибудь сон? Все мои мысли или совершенно элементарны, или непоправимо безумны, и через какое-то время я перестаю отличать вторые от первых. Вдруг мной овладевает желание войти в спальню и улечься вместе с родителями. Мысленно я проигрываю, что из этого выйдет. Чтобы избавить папу с мамой от замешательства, я поначалу присяду на краешек кровати и тихо поговорю с ними об их незабываемом прошлом. Глядя сверху вниз на родные лица, на их головы, покоящиеся на свежих наволочках, на одеяло, одно на двоих, которым они укрываются чуть ли не до подбородка, я напомню им, сколько воды утекло с тех пор, как мы, все трое, провели ночь под одним одеялом. Дело было в летнем домике на берегу Лейк-Плесида, помните? Не забыли, какая крошечная там была комната? Как спичечный коробок! А когда это было — в сороковом году или в сорок первом? И, если не ошибаюсь, папа заплатил за ночлег ровно доллар. Мама тогда решила, что на пасхальные каникулы мне надо непременно посмотреть на Тысячу островов[22] и на Ниагарский водопад. Туда-то мы и отправились в нашем «додже». Помнишь, мама, ты еще рассказала нам, что мистер Кларк каждое лето возит своих маленьких сыновей в Европу? Помнишь все свои рассказы о вещах, о которых я ни сном ни духом не ведал? Помнишь, как я и вы двое разъезжали повсюду перед самой войной в нашем маленьком «додже»… И тут, когда они оба уже будут вовсю улыбаться, я скину халат, юркну в постель и устроюсь между папой и мамой. И, прежде чем она умрет, мы проведем целую ночь и еще утро, обнимая друг друга. И никто никогда не узнает об этом, кроме доктора Клингера. Да и не наплевать ли мне на то, что он — или еще кто-то — об этом подумает?
Ближе к полуночи в дверь звонят. На крошечной кухоньке я подхожу к домофону и, убавив громкость до минимума, спрашиваю:
— Кто там?
— Сантехник, солнышко. В прошлый раз я не застал тебя дома. Как там у тебя с краном? Из него не течет?
Я ничего не отвечаю. Отец в домашнем халате входит в гостиную.
— Это знакомый? В такой час?
— Да так, один клоун.
Звонок меж тем надрывается как оглашенный.
— В чем дело? — кричит мама из спальни.
— Ни в чем, мама. Спи спокойно.
Я решаю все же сказать пару ласковых в домофон:
— Вали отсюда, или я вызову полицию.
— Давай вызывай! Я не делаю ничего противозаконного, миленок. Почему бы тебе не впустить меня? Я ведь не плохой мальчик. Я очень плохой.
У папы, который уже стоит рядом со мной и все слышит, по лицу разливается заметная бледность.
— Папа, — говорю я ему, — не бери в голову и возвращайся в постель. Это же Нью-Йорк! Здесь такое бывает.
— Ты с ним знаком?
— Нет.
— Так почему же он приходит к тебе? Почему разговаривает с тобой в таком тоне?
Замешкавшись с ответом, я нарываюсь на новый звонок в дверь. Уже в изрядном раздражении я объясняю отцу:
— Потому что парень, у которого я снял эту квартиру гомосексуалист. И, насколько я могу судить, сейчас сюда ломится один из его дружков.
— А он еврей?
— Ты имеешь в виду владельца квартиры? Да, он еврей.
— О господи, — вырывается у папы, — так чего ж ему не хватает?
— Полагаю, мне нужно спуститься и разобраться.
— В одиночку?
— Да уж как-нибудь справлюсь.
— Ум хорошо, а два лучше. Не будь идиотом. Я спущусь с тобой.
— Папа, в этом нет ни малейшей надобности.
— Ну а теперь в чем дело? — кричит из спальни мама.
— Ни в чем, — отвечает ей муж. — Дверной звонок заело. Мы сейчас спустимся и починим.
— В такой час?
— Мы на минуту. Ты только смотри не вставай. — А мне отец шепчет: — У тебя есть трость, или бита, или что-нибудь в этом роде?
— Ничего такого.
— А что, если он при оружии? Но зонтик-то у тебя хотя бы есть?
Звонки меж тем прекращаются.
— Должно быть, он ушел, — говорю я.
Отец прислушивается.
— Ушел, — повторяю я. — Точно ушел.
Но папе уже совершенно расхотелось спать. Прикрыв дверь в спальню («Ш-ш-ш, — шикает он на жену, — все в порядке, спи спокойно!»), папа садится на стул напротив моего дивана. Мне слышно, как бурно он дышит, собираясь с мыслями перед тем, как заговорить. Я и сам в напряжении. Прислонившись к подушке напряженной прямой спиной, я жду нового звонка в дверь буквально в любое мгновение.
— Скажи-ка мне, а ты сам… — Папа прокашливается. — Не замешан ни в чем предосудительном? Ни в чем, чего тебе не хотелось бы мне поведать…
— Не говори глупостей!
— Потому что, Дэви, ты покинул отчий дом семнадцать лет назад и с тех пор находишься под самым дурным влиянием.
— Нет, папа, ни под чьим влиянием я не нахожусь.
— Но мне хочется задать тебе вопрос. Только ответь на него честно.
— Договорились.
— Вопрос не об Элен. Я никогда не спрашивал тебя о ней и не хотел бы касаться этой темы сейчас. Я всегда относился к ней как к невестке. Разве я, разве мы с твоей матерью не относились к ней с предельным уважением?
— Это правда.
— Мне приходилось прикусывать себе язычок. Нам не хотелось настраивать ее против себя. Вплоть до сегодняшнего дня ей абсолютно не в чем нас упрекнуть. С учетом всех привходящих обстоятельств мы вели себя, думается, безупречно. Я ведь и вообще либерал, сынок, а в политике даже больше чем либерал. Известно ли тебе, что в двадцать четвертом году на выборах губернатора штата Нью-Йорк, самых первых выборах, в которых мне довелось участвовать, я голосовал за Нормана Томаса?[23] В сорок восьмом я проголосовал за Генри Уоллеса,[24] что не имело никакого значения, да и вообще было ошибкой, но примечателен тот факт, что я — наверняка единственный из всех владельцев гостиниц в Америке — проголосовал за кандидата в президенты, которого все считали коммунистом. Что не соответствовало действительности, но не в этом суть. Главное, что меня никак нельзя назвать человеком ограниченным. И никогда нельзя было. Ты знаешь — а если не знаешь, то тебе следует это знать, — я никогда ничего не имел против гоек. Гойки — это элементарный жизненный факт, и от него никуда не денешься, даже если еврейским родителям хочется, чтобы их сыновья брали в жены евреек. Да и с какой стати я должен возражать? Я верю в то, что представителям всех рас и религий надлежит жить в мире и согласии, и тому обстоятельству, что ты женился не на еврейке, мы с твоей матерью никогда не придавали ни малейшего значения. В этом отношении мы держались практически безупречно. Что лично мне не нравилось и не нравится в твоей Элен, так это все остальное! Честно говоря, если хочешь знать, я за три года вашего брака просто — напросто лишился сна.
— Я, кстати, тоже.
— Вот как? Тогда какого черта ты не сорвался с этого крючка сразу же? Или на что вообще клюнул?
— Хочешь поговорить об этом? Именно об этом?
— Нет-нет, ты прав, к черту все это! Что касается меня, то я не слишком расстроюсь, если больше ни разу в жизни не услышу ее имени. Меня интересуешь только ты.
— Ну и о чем же ты хотел спросить?
— Дэвид, что это за тофринал стоит у тебя в аптечке? Большая такая бутылка, наполненная чуть ли не доверху? Зачем ты пьешь эту пакость?
— Это антидепрессант. И вообще-то он называется тофрантил.
Отец шипит. Отвращение, досада, страх, нежелание поверить в очевидное — вот что означает это шипение, услышанное мною впервые в те незапамятные времена, когда папе пришлось рассчитать официанта, потому что тот мочился под себя и запах мешал спать всей ютящейся в мансарде прислуге.