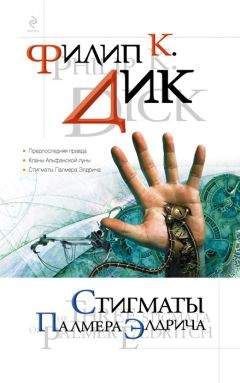Филип Рот - Профессор Желания
Вскоре после того, как я перебираюсь на съемную квартиру, глубокой ночью у меня звонит телефон.
— А где Марк? — спрашивает мужской голос.
— Он в Калифорнии. Вернется через два года.
— Ага, понятно. Что ж, передай ему, парень, что Уолли в городе.
— Но его-то самого нет! А у меня есть его калифорнийский адрес.
Я начинаю диктовать адрес, но голос — теперь грубый и раздраженный — не дает мне закончить:
— А ты тогда кто такой?
— Жилец.
— Вот как это, значит, теперь называется у вас, у вафлистов! Ну и как же ты выглядишь, дружок? У тебя тоже большие голубые глаза?
Когда подобные звонки успевают мне надоесть, я меняю номер телефона, однако преследования и приставания возобновляются — уже по домофону, по которому мне можно позвонить из холла этого большого кирпичного здания.
— Передай своему маленькому дружку..
— Марк в Калифорнии; вы можете связаться с ним по тамошнему адресу.
— Ха-ха-ха, хорошая шутка. А как тебя самого зовут, солнышко? Дай я на тебя полюбуюсь, может, мы и поладим.
— Послушайте, Уолли, оставьте меня в покое! Его нет. Он уехал.
— А тебе тоже хочется, чтобы побольнее?
— Слушай, вали отсюда.
— Валить? А кого ты прикажешь повалить? Может быть, наоборот, поставить?
Мужик убежден в том, что я с ним флиртую.
Ночами, когда я особенно остро страдаю от одиночества, когда мало-помалу начинаю разговаривать с самим собой и с отсутствующими собеседниками, мне порой приходится подавлять в себе желание позвонить по домофону с мольбой о помощи. Останавливает меня не столько очевидная бессмысленность подобной затеи, сколько страх перед тем, что в то самое мгновение, когда на централь в холле поступит мой SOS, там непременно окажется кто-нибудь из соседей или, хуже того, Неугомонный Уолли; выходит, боюсь я не того, что мне не окажут помощи, а как раз того, что мне ее смогут и захотят оказать, то ли терпеливый любитель однополых игрищ, то ли вызванная соседями из Бельвью карета скорой помощи. Поэтому я предпочитаю зайти в ванную, плотно закрыть за собой дверь и, придвинув вплотную к зеркалу свое изможденное лицо, вглядеться в него попристальнее. «Пусть придет хоть кто-нибудь желанный! Хоть кто-нибудь! Хоть кто-нибудь!» Вот что я твержу, как мантру, порою несколько минут подряд в надежде хорошенько выплакаться, призвав, пусть ненадолго, полную опустошенность и отсутствие каких бы то ни было желаний. Разумеется, я еще не настолько сошел с ума, чтобы верить, будто подобные заклинания в закрытой ванной и впрямь побудят кого-нибудь желанного отозваться на мою мольбу. Да и кто бы это мог быть? Знай я, с кем мне хочется встретиться, не пришлось бы таращиться в зеркало, я всегда мог бы написать этому человеку или позвонить. «Пусть придет хоть кто — нибудь желанный!» — так я взываю, а в результате прибывают мои родители.
Я поднимаю по лестнице их чемоданы, поскольку папины руки заняты переносным холодильником, на полках которого аккуратно расставлены пластиковые контейнеры с кошерными супами — капустным, с клецками, с фрикадельками и с курой, общим числом примерно в две дюжины; все супы заморожены, каждый контейнер снабжен аккуратной наклейкой. Уже в квартире мама извлекает из сумочки конверт с подчеркнутой красным надпечаткой прописными буквами ДЭВИД. В конверте содержатся — напечатанные на гостиничной машинке — подробнейшие инструкции, какое блюдо сколько размораживать, сколько потом разогревать и до какой именно температуры доводить.
— Прочитай, — велит она мне, — и посмотрим, не возникнет ли у тебя вопросов.
— А ты не против, — встревает папа, — если он прочитает это после того, как ты снимешь пальто и присядешь?
— При чем тут это? — возражает она.
— Ты устала.
— Дэвид, у тебя хватит места в холодильнике? Я ведь даже не знаю, какой у тебя холодильник.
— Места там полно, — легкомысленно отвечаю я.
Но когда я открываю холодильник, мама вскрикивает так, словно ей полоснули ножом по горлу.
— Что это? — негодует она. — Это всё?.. А поглядите-ка на этот лимон, он же старше меня! Чем ты питаешься?
— Главным образом тем, что подают в забегаловках.
— А твой отец еще твердил мне, что я переусердствовала!
— Ты устала, — говорит папа, — и ты действительно переусердствовала.
— Но я же так и знала, что он о себе не думает!
— Это тебе самой, — говорит папа, — лучше бы подумать о себе.
— А в чем дело? — вмешиваюсь я в их спор. — Что с тобой?
— У меня легкий плеврит, а твой отец решил устроить из него тяжелую драму. Немного болит спина, когда я долго вяжу. А все деньги на врачей и на анализы просто-напросто выброшены в помойку.
Ей еще неизвестно (и мне тоже — я узнаю это позже, наутро, когда папа, собравшись за свежей сдобой к завтраку и газетами, предложит мне составить ему компанию и поведет меня на прогулку к Вест-Энд-авеню, где мы когда-то останавливались у Ларри с Сильвией) — ей еще неизвестно, что она умирает от рака, который развился из самого обыкновенного панкреатита. Узнав об этом, я понимаю слова из отцовского письма: «Может быть, если мы остановимся у тебя в первый и в последний раз…» Но если мама ни о чем не догадывается, откуда у нее возникло внезапное желание посетить места, где она не была десятки лет? Я почти не сомневаюсь в том, что она все знает и разыгрывает этот фарс неведения специально для мужа, чтобы он не заподозрил ее осведомленности. Так они скрывают друг от друга страшную правду; мои родители ведут себя как храбрые, но беспомощные дети… А как повести себя мне?
— Что значит «умирает»? — спрашиваю я у него на обратном пути.
У нас обоих слезы на глазах. Папа собирается с мыслями.
— Ничего не известно, — говорит он мне наконец, — это-то и есть самое скверное. Пять недель, пять месяцев, пять лет, пять минут! Каждый врач называет свой срок.
Когда мы возвращаемся, мама вновь спрашивает у меня:
— А ты повезешь нас в Гринич-Виллидж? Поведешь в музей «Метрополитен»? Когда я работала у мистера Кларка, одна из девушек хвастала тем, какую замечательную лапшу с зеленью подают в каком-то итальянском ресторанчике в Гринич-Виллидж. К сожалению, я забыла название. Может быть, «Тони»? Эйб, может итальянский ресторанчик называться «Тони»?
— Солнышко мое, — отвечает папа голосом, заранее севшим от горя, — «Тони» или не «Тони», но ведь прошло столько времени. Этого ресторанчика наверняка уже нет.
— А мы посмотрим! А что, если есть? Попытка не пытка. — И столь же весело мать обращается ко мне: — Знал бы ты, Дэвид, как мистер Кларк любил Музей современного искусства! Когда его сыновья подросли, он каждое воскресенье водил их туда полюбоваться замечательными картинами.
Я сопровождаю их повсюду: и посмотреть на прославленные полотна Рембрандта в «Метрополитен», и поискать ресторанчик «Тони», где подают чудесную лапшу с зеленью, и нанести визит самым близким и дорогим друзьям (кое-кого из них я не видел уже лет пятнадцать, что не мешает им при встрече целовать и тискать меня так, словно я все еще маленький мальчик, зато чуть погодя обращаться ко мне как к университетскому профессору с серьезными вопросами, допустим о международном положении); мы, как встарь, отправляемся в зоопарк, в планетарий и, наконец, в паломничество к святому месту, где мама работала секретарем-референтом у мистера Кларка. Плотно позавтракав в Чайна-тауне, мы стоим зябким воскресным днем на углу Бродвея и Уолл-стрит, и мама, как всегда, принимается вспоминать годы, отданные службе в конторе, но с таким простодушием, что в ее восторгах нет ни малейшего вызова. А я думаю о том, насколько иной была бы ее жизнь, выпади ей на долю так и остаться одной из конторских «барышень», старых дев, обожающих начальника как символического отца и по большим праздникам вживающихся в роль «тетушек» при его потомстве. Избавленная от вечной неразберихи семейного пансионата, она наверняка чувствовала бы себя куда увереннее, жила бы в полном согласии со своим стремлением к умеренности и аккуратности, а не вымаливала бы у собственных принципов прощения за все, что творится вокруг. С другой стороны, тогда в ее жизни не было бы моего отца, не было бы меня — нас (именно нас) просто-напросто не было бы. А если бы, а если бы… А если бы что? У нее рак.
Ночами они спят на широкой кровати у меня в спальне, а я ворочаюсь под одеялом без сна на диване в гостиной. Моей мамы скоро не станет — вот о чем я думаю. И ее последним воспоминанием о единственном сыне так и останется его непутевое и, по сути дела, бесприютное существование с вечно пустым холодильником, где только и сыщешь что засохший лимон! Ах, с каким отвращением, с каким раскаянием перебираю я в мозгу целую серию ошибок (а вернее, разбираюсь с одной-единственной ошибкой, которую, сам не зная зачем, допускаю вновь и вновь), в результате которой родители остановились у меня. Почему бы — вместо того чтобы враждовать, вместо того чтобы доставлять друг дружке все новые поводы для непримиримой ненависти — нам с Элен не составить столь же идеальную, как мои родители, пару, почему не попытаться жить не друг против друга, а друг для друга? Неужели это так трудно? Ведь ни меня, ни ее человеком безвольным не назовешь! И разве не следовало с самого начала сказать ей: «Послушай, давай оставим этого ребенка!» Лежа без сна и прислушиваясь напоследок к мирному похрапыванию мамы, доносящемуся из соседней комнаты, я пытаюсь проникнуться новой решимостью: я должен покончить с этим бессмысленным существованием, и я с ним непременно… и вдруг, совершенно неожиданно я вспоминаю Элизабет с медальоном на шее и с рукой в гипсе (давным — давно снятом). Вот из кого получилась бы замечательная женушка для моего овдовевшего отца! Но в отсутствие Элизабет как мне ему помочь? Как он будет жить, оставшись в одиночестве, за что уцепится, чтобы выжить? Ах, но почему же на одном краю жизни обязательно оказываются Элен и Биргитта, а на другом — половинка засохшего лимона в холодильнике!