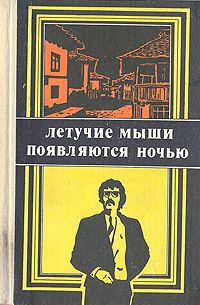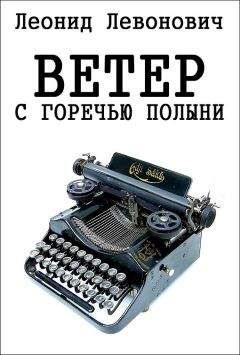Анатолий Байбородин - Не родит сокола сова
После эдаких вопросов, больно уж похожих на упреки, жалко было мать, а иногда и зло брало на нее, как на безропотную корову: и сама век промаялась, и ребята настрадались при лихом папаше. Но прошло немного времени, когда с Ванюшки шелухой слетела молодая, торопливая прямота и не осталось и следа озлобления на мать, явилась жалость, а с нею удивление: нынешние-то наши женки сроду не забудут про себя и не то что пострадать за мужиком ради ребятишек, а и послужить не больно разбегутся. Сроду не забудут про себя, про свой интерес, в корыстолюбии не знающий предела, и если даже терпят от семьи, от мужика, то терпят зло, отчаянно, ненавидя весь белый свет, видя в нем одних лишь прощелыг, сумевших урвать себе жирные и сладкие куски. А мать… мать, наверно, и в сновидениях не жила для себя, – пробуждая среди ночи, доставали переживания о мужике: не залез бы куда пьяный, о ребятах: Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, спаси и сохрани чадушек моих, и подскажи, Милостивый, чем завтра накормить оравушку, во что обуть, одеть, если в доме пусто, шаром покати; да как бы ублажить отца, чтоб пьяный не шумел, не мотал души ребятишкам… А может, для матери это и было — жить для себя, а без этих переживаний — уже не для себя, не для кого?..
Всегда помнилось Ванюшке, что мать садилась за стол позже всех, досасывала рыбьи головы после ребят и сердилась ежели ей пытались подсунуть, скажем, щучье звено наравне со всеми. Разве что от свежего чая, забеленного коровьим, а пуще козьим молоком, не умела отказаться и даже, поднимаясь до света, чаевничала в утренних сумерках наособинку, чтобы попить чай и другой раз, когда уж вся многочадливая семейка усядится за стол.
Ванюшка, которому чаще всего стелили в кухне на курятнике, вполглаза, точно продолженьем сна, видел порой, как мать, докрасна омывшись студеной водой, зардев щеками омоложенно, раздирала гребнем спутанные во сне волосы, потом гладко их причесывала, закручивала и, повязав беленький платочек, долго и зачарованно крестилась, вымаливая у Господа покоя и здравия отцу, Ванюшке, девчушкам и даже поминая корову Майку и всю другую животину. Жалобно и умиленно глядя на резную божницу с проясневшими в утреннем свете образами, отрешенно молилась, старательно осеняла себя крестным знамением, кланялась поясно, разминая затекшую и занемевшую за ночь спину, при этом шевелила скорбно побледневшими губами.
Отмолившись, раздувала самовар, приткнув коленчатую трубу к печной вьюшке, потом растопляла печь и ставила на огонь две больших чугунки с намытой картошкой: мелкую – поросе, покрупнее — отцу и ребятишкам, а уж потом, заварив, садилась пить чай, пила его, подбеливая из крынки молочком, закусывая черным сухарем, пила, как молилась, — неспешно, чему-то своему грустно улыбаясь, иногда даже чуть слышно разговаривая с кем-то. При этом все смотрела перед собой или в синеющее окошко круглыми, почти недвижными глазами, будто замершими в ласковом, младенческом удивлении перед нарождающимся днем. В каждом дне ждал ее этот предрассветный, тихий час, принадлежащий только ей, как поджидал заветный, свежий чай.
Потом уже своим долгим чередом шла домашняя работа, которую делать — век не переделать, но и без которой тоже жизнь не в жизнь; потом уж мать жила для дома вся, без малого остатка, и тем самым, наверно, опять же для себя. Отрадный и спасительный свет в материном окошке – чада и натужная работушка, какую азартно подтягивала и подтягивала к себе, даже порой отнимая ее у подросших ребят и девок. Все ей казалось, что сама она лучше и быстрее спроворит, да и сил не хватало глядеть, как шель-шевель, точно едва живые, копошатся девки-копуши или Ванюшка, лень у которого наперед его родилась. Даже, бывало, обезножит… еще смолоду маялась ревматизмом, прижитом на рыбалке, где от темна до темна в стылой воде, и болотистых покосах, когда одна обужа – сыромятные моршни… бывало, ноги едва волочит а все шоркается по кухне, держась за стул и пихая его впереди себя, словно поводыря. Рыбеху ли свежую пластает, солит в деревянный лагушок, тесто ли месит в квашенке, брушину ли скотскую скребет, чтобы бросить ее вместо мяса в суп, картошку ли трет на крахмал, шерсть ли прядет, только не сидит сложа руки.
Уже старая, согнутая в клюку, едва шоркаясь по городской кухне, опираясь на спинки стульев, столы, ни минуты, бывало, не присядет, сложа руки на праздных коленях, и никогда не пожалуется на усталь, а если и пожалуется, то лишь для словца застольного: дескать, слава Богу, и я при деле, даром хлеб не ем, и чувствовался иногда в матери страх перед грядущей немощью, когда она не сможет шоркаться по кухне, что-то гоношить, обвязывать, обчинивать внуков, ворча на них, подучивая жизни, когда ей придется жить на всем готовеньком, из чужих рук варево хлебать.
Вот так же и всю жизнь жила мать, разрываясь между отцом и ребятишками. Ночей не досыпала, куска не доедала, лишь бы домочадцы сыты были, и уж тем бывала счастлива. Ванюшка вроде головой и понимал это, а сердцем, не умеющим забыть о плоти, сколько ни силился, не мог постигнуть — видно, не дано или еще не вызрел,—поэтому мать, простоватая и даже с виду глуповатая, узнаваемая даже по шорохам и вздохам, стала для него загадочной и непонятной. Странно еще то, что Ванюшка, как ни тужился, сроду не мог представить для матери иного мужа, кроме отца, которого серьезные или пожилые бабы обзывали не только халуном — горячим мужиком, но и говорили: дескать, крутель белого света, каких еще поискать. Стоило Ванюшке вообразить на отцовском месте мужика тихонравного, как сама мать мутнела в его сознании, меркла и, теряя свое особое значение, обращалась в непутную, запурханную, неряшливую бабу. А что до ее покорности отцу, так тем мать и спасала его от потери лица человечьего, да и сказано же в Святом Писании: «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу».
Впрочем, нажив мало-мальскую судьбу, Ванюшка и отца увидел светлее, и понял, что и тот, ежели не брать хмельные заплывы, жил в заботах-хлопотах, тужил о матери и ребятишках, и всех жалел, но не умел или не хотел выпячивать жалость на показ.
9
— Ложись, папка, спать, ложись, — уговаривала мать.—Выпил бравенько, поговорил и хурэ, пора и на боковую. Утром хотел еще покос глянуть. Не ближний свет… Ложись, а то не подымешься утром.
— А вот вы с Шеститкой и косите сено. Любите молочко пить, вот и косите, — голова отца клонилась к столу, хотя он так и не сводил с Ванюшки тяжелого, подлобного взгляда. – Я уж старый стал. Вон, видишь, зубы уж попадали, – отец ощеривал рот и, выворачивая пальцами губы, казал дыры меж редкими, но долгими, как клыки, желтоватыми зубами. – Кормить вас с матерью мне тяжело…
«О, Господи, Пресвятая Богородица, уйдет сегодня этот идол с глаз или нет?! — серчала мать, отчаянно и зло сверля сына потемневшими глазами. — От тоже навязался на мою душу грешную. От беда-то, а!.. Оголодал, бедный, никакого терпежу уж нету. Но досидит, поди, дождется…»
— А ить я могу разок и закатишься, — отец, упираясь руками в столешницу, начинал косо и шатко вздыматься над сыном, но тут, как всегда, подлетала мать и, встав между ними, голосила в полный голос:
— Папочка, папка, пойдем спать. Пошли, пошли, время-то уж дивно.
Отец резко отпихивал ее рукой, и мать отлетала к печи, открыв сына.
— Выгоню-у, м-мать в-вашу за ногу! Выгоню! — кричал отец так, что испуганно обмирало, чуть не гасло пламя в стеколке, потом долго трепыхалось, словно желтоватая пичужка в невидимых силках. — Убью, гады! — глаза отца, вылезающие из глубоких, сырых глазниц, наливались кровью, – верно, что Халун, – и он тут же смахивал на пол посуду, какая оказывалась под рукой, потом со всей, неведомо откуда прилившей, силушки зло бил кулаком в столешницу. — Задавлю-у!..
Запивая непрожеванный хлеб слезами, ими же и подсаливая, пробкой вылетал Ванюшка из-за стола, с ревом бежал в ограду, потом на скотный двор к Майке. Зная, что парнишонка в стайке подле коровы, не рыская его, мимо двора хлестко пробегала мать, причитая на ходу, суля все напасти на отцовскую голову. Иной раз она вылетала из избы, даже не успев накинуть на себя хоть мало-мальскую курмушку, и, мороз не мороз, в одном платьишке бежала до Сёмкиных, чтобы хоть там дать полную волюшку словам и слезам, размягчая ими захолодевшее до ломоты и затвердевшее сердце, чтобы услышать на свои причитания жалость от сердобольной Варуши Сёмкиной да на том и обреченно успокоиться, полностью положась на волю Божью.
Ванюшка же успокаивался возле родимой Майки. Насухо, до птичьей легкости во всем теле, до покойной и мстительной мысли о своей смерти выплакавшись, дремал прямо на сенной трухе, угретый теплым коровьим боком, убаюканный монотонным хрумканьем, утешенный сочувственными вздохами коровы. И слышалось ему явственно в темноте стайки:
— Ничо-о… ничо, сына, не переживай, будет и на твоей улке праздничек, и наградятся слезыньки сполна. Потерпи маленько, не век же маяться. Придет времечко, лучше всех заживешь… Ну, ладно, ладно… спи теперь… спи, мой бравенький, спи спокойно, и не копи зла в душеньке…