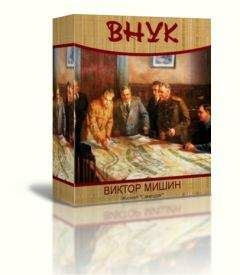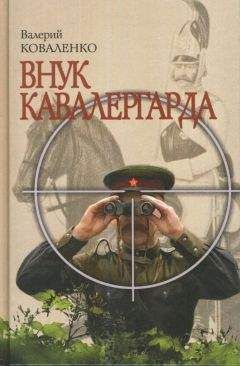Виктор Некрасов - По обе стороны Стены
— А я за тебя, Фриц! Кстати, за что ты Железный крест получил? Это твой портрет в кабинете, над столом?
— Мой. Только не Железный, нет, не дали, это Мерит Крейц, как это, за услуги.
— За заслуги, верно?
— Да. За заслуги. Только нет этого, сабля, меч. Второй класс. Вроде ваша звездочка.
— Не очень-то, — усмехнулся Карташов, у него была именно «Красная Звезда». — У нас считался бабьим орденом — сестричкам давали, связисткам, командирским пэпэжэ…
Они опорожнили все бутылки, остатки от вчерашнего и Хельмут, отяжелев вдруг, сказал:
— Знаешь, я, кажется, опять спать. По-ке-ма-рю, по-вашему.
— А ты по-нашему здорово шпаришь. Почти без акцента. Сколько в плену пробыл?
— Восемь год.
— Где?
— Сибирь. Недалеко Омск.
— Не был, не был в тех краях…
— А я вот был. Даже любил.
— Что любил?
— Не что, а Катю.
— Катю? Русскую?
— Русскую. Подавальщица.
Карташов хлопнул Хельмута по спине.
— Хорошо тому живется, кто с молочницей живет… Не плохо устроились, кригсгефангены…
— Да, вашим хуже было.
Карташов хотел что-то ответить, но раздумал.
— Ладно, ложись. А я разминочку сделаю, воздухом подышу.
— У нас тут парк рядом, хороший, лебеди плывут.
— Лебеди, лебеди… А где твоя жена, фрава?
— Нету…
— И не было?
— Была…
— И?..
— И нету…
Помолчали.
— Ладно, я пошел… Дай мне денег каких-нибудь, у меня только франки.
Хельмут стал рыться в карманах пиджака. Что-то нашел.
— Не загуляешь?
Карташов рассмеялся:
— С моим-то немецким?
— А водка по-немецки тоже водка. Пол-литра я тебе дал, даже больше.
Карташов сделал вид, что обиделся.
— За кого ты меня держишь? За алкаша, что ли?
— Вот именно…
Оба рассмеялись.
— Не хами, фриц. Шлафен, шлафен, а я немного шпацирен. Нихт дринкен…
Но «нихт дринкен», не пить, не получилось.
Парк был пуст, киоски закрыты. Ну лебеди, ну утки. Лебеди такие красивые, изящные в воде, на берегу оказались вдруг грузными, неэстетичными, лениво топающими вразвалку и очень агрессивными, все время ссорились между собой… Тем не менее, покормил их какими-то крошками, оказавшимися в кармане.
Да, забавно все это, — думал Карташов, обойдя весь пруд и примостившись перекурить в какой-то беседке, он не любил курить на ходу. — Забавно… Через сорок лет, в каком-то Гамбурге, проснуться и обнаружить рядом стакан водки, ну, не стакан, полстакана, и очищенный мандарин, а потом продолжать опохмелку с гитлеровским кавалером Креста «За услуги», правда, говорит, без мечей, с обер-лейтенантом, который фотографировал тебя, старшего лейтенанта, со своей чертовой «рамы», с первыми лучами солнца появлялась она над твоим Мамаевым курганом… Бывает же такое… Он, этот самый, как выяснилось, Хельмут, а не Дирк, еще на вернисаже подошел к нему и, весело улыбаясь, спросил: «Я слыхал, вы тоже сталинградец. Где стояли?» Потом, на приеме у Дирка, все подливал и подливал. Ненадолго возле них появился и писатель, — «А нельзя на троих?», — тот самый, за которым надо было следить, он тоже оказался сталинградцем. Но вскоре куда-то исчез, так и не выяснив с Карташовым, были ли они соседями на Мамаевом кургане. Успел, правда, рассказать, про письмо от одного немца, который тоже воевал в Сталинграде. У вас в книге, пишет, рассказано о том, как герой, вернувшись из госпиталя, обнаружил в штабной землянке трофейный аккордеон. «Так вот, в Шестой нашей армии, аккордеон был только у меня и меня часто приглашали то туда, то туда. Потом меня ранило и эвакуировали в тыл. А аккордеон остался. Не о нем ли вы написали? И какова его дальнейшая судьба?» Ничего себе фриц?
Выяснилось вдруг, что нет сигарет. И сразу же появилась цель. (Вторая, подспудная, тут же всплыла и присоединилась). Вышел через другие ворота на улицу. Чистенько, подметено, ни бумажки, ни собачьей кучи — не Париж, нет — но все, будь оно неладно, закрыто, Не без труда обнаружил какого-то немца — «сигаретен, сигаретен?» Тот задумался, потер переносицу, сказал «хабен» и указал на трамвайную остановку. «Цвай унд драйциг, битте». Карташов понял, что тридцать вторым номером надо добраться до гавани, до порта. Трамваи, слава Богу, уже ходили. Подошел 18-й, 16-й, наконец, 32-й, длинный, желтый, с рекламой на крыше «VODKA PUSCHKIN». Весьма символично, подумал Карташов и сел в пустой вагон.
Ехали долго, через весь город, позвякивали на каждой остановке. Пассажиров почти не было, два-три за всю дорогу.
Наконец, приехали. Вагоновожатый сказал: «Энд-стацион» и вышел. Карташов тоже.
Краны, краны, краны… Пароходы. Очень много. Один вплотную к другому. Карташов ожидал моря, но оказалась река, очень широкая, но река. Эльба… Гамбург стоит на Эльбе — вспомнил школьную географию. Ну и черт с ней, с Эльбой, где же тут кабак? И кабак обнаружился. Под названием «Акапулько». Это сразу же как-то развеселило.
«Морген!» — сказал он, входя в «Акапулько». «Морген», — ответил из-за стойки толстый хозяин в удивительно чистом фартуке.
— Сигаретен. «Голуаз» унд айн бир, — и, подумав, добавил, — битте!
Ему принесли очень высокую кружку очень холодного пива, но «Голуаз» не оказалось и вместо него дали «Кэмэл», тоже крепкие. Потом попросил зачем-то газету — «цайтунг!» — и перед ним положили на выбор три цайтунга, все на палках. Он выбрал ту, где было больше фотографий и стал их рассматривать.
И вдруг… Вдруг обнаружил, листая газету, что сегодня не больше, не меньше, как девятое мая, День Победы.
День Победы!
Господи, сколько было выпито в этот день тогда. Тогда… Сколько это лет прошло? Тридцать… Тридцать восемь лет. Ну и цифра… Тридцать восемь! Страшно даже подумать. Сколько ж было ему в сорок пятом? Двадцать пять? Двадцать шесть? А сейчас…
День Победы… А он сидит в каком-то занюханном гамбургском портовом кабачке и не с кем даже чокнуться… Люненбург, где Зеленин, Леонов и Шелковский, далеко, за пятьдесят километров, да никто из них не воевал. Писатель, тот, правда, воевал, но с ним выпьешь, потом, в Париже, со свету сживут, ну его… Хельмут? Парень отличный, что и говорить, и крест за войну, а по-русски шпрехает что надо, и Катьку какую-то где-то там под Омском это самое… Нет, нужен свой, оттуда…
Он вспомнил рассказ, который прочитал в каком-то советском журнале. Назывался он «Знаменательная дата». Про парня, работягу, который вдруг вспомнил, проснувшись, что сегодня какая-то круглая годовщина того дня, когда он впервые вступил в бой. И решает как-то отметить его. Ста граммами с каким-нибудь фронтовиком. И, вот, из забегаловки в забегаловку, а выпить не с кем. Все молодежь. «Для нас, папаша, это все история… По книжкам, по кино…» К концу дня обнаружил, наконец, какого-то ханыгу, полковника в отставке, в пивном баре на Столешниковом…
Мда… До Столешникова далековато… Но неужели в таком городе, как Гамбург, портовом городе, со всего мира корабли, не найдется русского морячка-алкаша… Не может быть! Пусть молодой, черт с ним…
Расплатился, вышел на набережную. Озирнулся. Краны, краны… Трубы, трубы… С желтыми, белыми, красными полосами, с какими-то буквами. Наконец, обнаружил трубу с серпом и молотом. Хочешь жни, а хочешь куй! — вспомнилось. Подошел ближе. Сухогруз «Первомайск», но во втором ряду. У причала такой же, только с панамским флагом — по диагонали синий и красный квадрат, по другой — синяя и красная звезда — когда-то марки собирал, вспомнилось. Походил, походил, взад и вперед, с панамского сошло несколько человек, советский был мертв, и на палубе никого.
«Не пускают, гады, — подумал Карташов, — контактов боятся…»
И в этот момент увидел троих. Шли рядышком, какие-то унылые, не торопясь, останавливаясь у каждой витрины. Все трое в кепках, пиджачках. Пошел вслед за ними.
Первые дни, месяцы после демобилизации долго еще снились всякие бомбежки, «Юнкерсы», «Хейнкели», верткие «Мессера», артобстрелы. Потом все реже и реже. А сейчас? Прошло столько лет, а годы эти, кровавые, страшные, кругом смерть, — вспоминаются ну, не с нежностью, и вовсе не как героические, но вроде как чистые, незапятнанные. В госпиталях было просто отлично, благо, оба раза был ходячим. Врачи, сестрички, ребята по палате — все хорошие. Палата офицерская, двадцать шестая.
Трое лейтенантов, два капитана, ну и один солдат, на побегушках, за выпивкой, базар рядом, в двух кварталах. «Пейте, ребята, — молила завотделением пышнотелая Ася Аркадьевна, — пейте, но, молю вас, только в палате. Не пикируйте, Христа ради, засекут, мне же неприятности будут…» Иной раз и сама забежит, пригубит слегка. Старше майора в камеру не принимали. Политруков тоже, от ворот поворот. «Политработник?» — «Да» — «Вали отсюда. Здесь воевавшие. Попробуй в тридцатую, может примут».
Хорошо в госпитале.
Да и на передовой не всегда стреляют. Декабрь, январь в Сталинграде совсем тихими были. Относительно, конечно. Но бомбежек не было, артобстрелов тоже, так, из минометов шпарили. И землянки, как говорил украинец Охрименко «добре отладнанi». Тюфяки, подушки, кастрюли, посуда — из развалин солдаты натаскали. Кое у кого — у артиллеристов, у начальника связи, на КП первого батальона — патефоны, Шульженко, Утесов, Бернес… У разведчиков всегда есть, что выпить. Вот это и вспоминается…