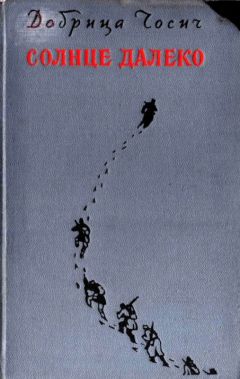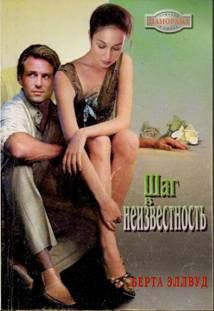Добрица Чосич - Время смерти
Не поднимая глаз, он вытер ладонью лоб.
— Это обозные сплетни, Ольга. Информация теток телефонистов. Свояченицы посыльных распространяют такие слухи.
— Прости, что я тебе, политику, депутату, не знаю кто ты еще в этой стране и в этом Нише, сообщаю о планах Путника и Карагеоргиевичей.
Ее сдержанное ехидство заставило его устыдиться, но боль стала сильнее.
— Правительство понятия не имеет об этом. Пашич должен был бы мне это сказать, раз он пригласил меня и столько времени со мною разговаривал.
— Господи, а почему тогда Иван просит три пары очков? И ты ведь сам прочел: «На днях мы безусловно отправимся на фронт. Не могу дождаться». — Она не испытывала больше желания опустить лицо в его колени.
Он зажигал сигарету, чтобы иметь возможность молчать. Очевидно, она винит его в том, что Иван ушел добровольцем.
— Дорогая, ты сама трижды на день твердила детям: я хочу, чтобы вы любили родину и поэзию. Родину и поэзию! — произнес он укоризненным шепотом.
— А ради чего еще более возвышенного нужно было воспитывать детей?
— Не вижу смысла, Ольга, сегодня ночью обсуждать то, что за двадцать лет, живя бок о бок, мы не успели обсудить.
Ее лицо вспыхнуло, как от пощечины.
— Куда мы придем, — он наклонился к ней, — если будем продолжать в таком духе, Ольга? Утро может застать нас рабами.
— Пожалуйста, сядь. И сдержи свои руки. Когда-то руки у тебя были спокойны, как у святого.
Боль в ее голосе сразила его. Он пожалел ее. Откуда появился у них этот тон, который ведет к семейным счетам, чего им до сих пор как-то удавалось избегать? Закрыв руками лицо, она прошептала:
— Случится что-то ужасное. Представь себе, если бы моя тень на стене перестала быть только тенью и стала живым существом. И вдруг эта тень говорит тебе нечто ужасное, дышит, смотрит на тебя иначе, чем я, живая. Как твоя сейчас на меня. Представь себе, если можешь.
— Да. Все пошатнулось. Абсолютно все.
Она отняла ладони от лица, чтобы видеть его: он и сейчас думает обо «всем». И Иван для него в этом «всем».
Ее вздох вывел его из размышлений: в уголках изумленных, сухих глаз, на которые время уже наложило свой отпечаток, вокруг внезапно ставших тонкими губ появились складки презрения. Всего несколько раз вот так выразилось оно по отношению к нему. Ею, которая всегда, неустанно, любого и каждого рядом с собою стремилась покорить красивыми чувствами и возвышенными мыслями.
— Скажи, что ты собираешься предпринять для Ивана? — неожиданно и хрипло спросила она.
— Как что? А что я могу предпринять? — громко ответил он.
— Предотвратить его самоубийство, — еще глуше прошептала она, закинув голову и неотрывно глядя на него снизу, с чемодана, угрожая.
— Как предотвратить? — вздрогнул он, словно от внезапного удара.
— Это знает каждый в этой стране. Каждый.
— Но я этого не могу сделать. Я не могу просить протекции для сына-добровольца, — все так же громко ответил он, сжимая руками колени.
— Не можешь просить за единственного сына? За Ивана не можешь просить? Разве есть что-либо, что ты не можешь отдать за его спасение? Что-либо другое для тебя важнее и дороже? — шептала она, потрясенная.
— Не могу, — громко повторил он. — Я не могу просить письма у военного министра и протекции для своего сына. Десять дней назад в парламенте я осудил правительство за протекцию и коррупцию в мобилизационных командах. За легионы торговцев и симулянтов по штабам и в тылу. На прошлой неделе я опубликовал статью «Vicium cordis, или Позорное сердце». То, что я осуждаю, делать самому — на это я не способен. Я не могу.
— Генерал Мишич твой друг. Наш друг. Он знает, какие у Ивана глаза. Он знает, что ты не просишь протекции.
— Подобной услуги я не могу просить у своего друга. У помощника Путника, — прошептал он.
— Ивана убьют, едва он попадет на фронт, — сказала она, повысив голос, с такой болью, что заставила его онеметь. — Из-за твоих принципов! Разве так можно, Вукашин?
Она почти кричала, стоя на коленях между кроватью и чемоданом. Он не заметил, как она упала на колени и подползала к нему, не сводя с него глаз.
— Ты ли это, Вукашин? — твердила она. — Человек принципов. И сына во имя принципов? Ивана за идею? Эгоист!
— Что ты говоришь, Ольга? — спросил он, напуганный выражением ее глаз и судорогой, исказившей лицо. — Ты хочешь, чтобы я пошел с Иваном на фронт? Я думал об этом. Я могу попросить генерала Мишича, чтобы меня назначили в ту же роту, к Ивану. О такой протекции я могу просить. Ни о какой иной, — добавил он, повысив голос.
— И сейчас честолюбие. Принципы. Господи, что с нами будет? — Она села на чемодан. Уперлась локтями в колени и опустила голову на ладони. — Потуши свет.
Ему словно стало легче оттого, что он может двигаться, что-то делать, шевелиться. И словно не видеть ее презрения. Он повернул выключатель и остался стоять возле двери.
— Неужели мой муж только человек принципов? Тот, кто верит, что идеи оправдывают его, когда он наносит боль другому. Тот, кто имеет право принести в жертву детей.
— Что ты говоришь, Ольга?
— Себе говорю. Не тебе.
На балконе мяукала кошка, царапалась в дверь: ее разлучили с котятами. Часы отмечали время. Ольга молчала, слушая их удары. Голос ее родного дома, ее матери. Удивительный, преданный собеседник из мира, который рушится.
Запели петухи, и он понял — полночь.
— Я не могу его спасти. Не могу. — Он лег, с мольбой и отчаянием глядел ей в глаза.
Напуганная этими словами, его бесповоротной решимостью, она едва нашла в себе силы подняться с чемодана и лечь на кровать, рядом с письмами, лицом в подушку.
Кошка горько мяукала и скреблась под дверью. Царапала ее. И своими когтями разрывала им душу.
Он нащупал стул, сел к окну и закурил.
Повернувшись, она встала и, посмотрев на него, гневно, слишком громко для этой комнаты и этого их разговора, сказала:
— Любовь все может, говорю я. И все смеет, Вукашин Катич.
От ее взгляда у него перехватило дыхание.
— Все смеет только одна любовь.
— Одна?
— Да, любовь плоти и крови. Этой любви все дозволено.
— А отцовской любви?
— У нее другой закон. Свой закон. — Он встал, она осталась где-то внизу, далеко внизу.
— Каков же, отец, этот твой закон? — шепнула она ему в колени.
— Я не могу делать все. И не смею делать все, — выдавил он.
Дрожь колотила ее, слезы застилали глаза. Жгучие слова застряли в горле. Она мучительно схватилась за спинку кровати. Откуда-то издали доносились его тяжкие, горестные вздохи.
— Сжалься, Вукашин. Если можешь, — шепнула она. — Если хочешь, чтобы я тебя еще уважала, — сказала, в полный голос.
Он снимал сюртук и не слышал всех ее слов. Обессиленный, лег. И только прошептал:
— Неужели ты мне в самом деле не веришь, что ценой бесчестной протекции я не могу спасать Ивана?
Она медленно встала, тщательно задернула плотные шторы на окне и не раздеваясь легла, стараясь не коснуться его даже одеждой. Глаза накрыла синим платком.
11Когда же он сделал ту ошибку, какую делают только раз в жизни? Ту самую, от которой даже отцу своим опытом не удается уберечь сына? Тогда ли, когда бросил в Сену свою крестьянскую одежду и отверг первый завет отца? Или когда поверил, будто быть правым в жизни важнее любого успеха в этой жизни? Когда предпочел карьере моральный престиж в обществе своего времени? И поверил, что куда больший подвиг, чем геройская смерть на Косове[39], — смелость говорить правду и высказывать свое мнение? Сметь сказать любому: нет, неправда, ты не прав. И он поверил, что это не только вопрос морали, но что в этом единственная разумная страсть. Истинная победа человека.
Нет, все это произошло иначе. И гораздо раньше. С самого начала все было предрешено.
Той ночью перед его отъездом в гимназию, когда он засыпал под причитания матери о том, что «Ачим, бессердечный разбойник, увозит ребенка в неведомый свет», и крики Ачима: «Есть у тебя Джордже, хватит с тебя! Этому я не позволю оставаться убогим слепцом. Хочу, чтоб он разум приобрел, чтоб мой сын приобрел такой разум, чтобы перед ним гнули шеи все грамотные жулики и разбойники из канцелярий. Чтоб все пути перед ним открылись и Морава остановилась». Что это такое, что за канцелярии? — спрашивал он себя, с головой накрываясь рядном, стараясь не слышать родителей, плакал и просил покровителя семьи святого Георгия погубить отца до рассвета, заставить Мораву выйти из берегов и затопить Прерово и Паланку по самые крыши и трубы, до самых гор. С тем он и уснул, но сон его оборвали, разнесли в клочья свистящие удары, вопли матери и тяжелое дыхание отца. Он вскочил, открыл дверь в горницу и увидел, как возле очага корчится раздетая донага мать, а Ачим стегает ее веревкой. Он бросился на отца, но тот схватил его за шиворот и швырнул в комнату, откуда он кричал изо всех сил: «Убей меня, не хочу в школу! Убей, не хочу!» Он не мог больше уснуть от слез, от вида голой матери, загнанной к очагу — только в огонь она и могла уйти от мужа, «бессердечного разбойника». На рассвете пришел учитель Мика и вытащил его из постели. Отец уже сидел в запряженной телеге; мать, всхлипывая, грузила мешки с мукой, фасолью и картофелем, отец велел ему садиться в телегу, а он сломя голову кинулся на сеновал. Учитель догнал его, и больше он ничего не помнил, пока они не оказались на пароме через Мораву; он лежал в телеге, крепко зажатый ногами учителя, и почему-то подумал, что переправляется через Мораву навсегда. И опять заплакал. Он хотел плакать, но учитель Мика больно стиснул его своими ногами. Придавил, прижал. Наступил на него. Как на связанного ягненка. Принесенного в жертву отцу. Его воле.