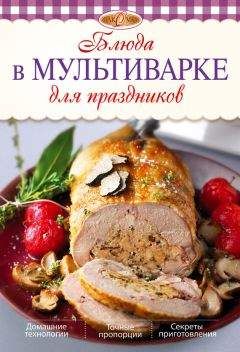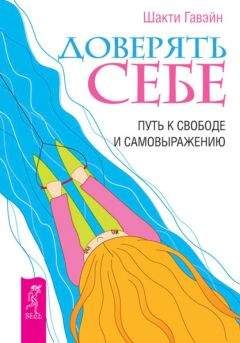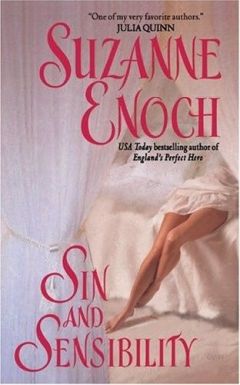Виктор Ремизов - Кетанда
Геннадий только теперь заметил лежащее дерево. Прищурился на него красивыми глазами, зачем-то строго сдвинул черные брови и направился вроде и к тополю, но на самом деле к бельевой веревке, на которой он всегда чистил костюм. И хотя мелькнула мысль, что помочь-то бы надо, Геннадий уверенно скакнул через нее конем, тут же ощущая не без приятности, что ход этот правильный. Сегодня у него не было времени.
Последние пять лет, после того, как у Пусто-валова умерла жена, у него всегда было несколько женщин. Все моложе его, все еще хорошенькие, и все его любили. И все у него было строго, как в красивой шахматной партии. Сегодня надо было успеть к двоим. Да и помылся он уже и освежился одеколоном.
А Миша так с пилой и пошел за сигаретами. Хотя ему нельзя было курить. И по лестнице разрешалось подниматься только с отдыхом. Месяц назад у него был инфаркт. Он провалялся две недели в 6-й горбольнице и теперь сидел дома. На больничном.
В палате он насмотрелся на доходяг (двое из них в одну ночь померли) и здорово испугался — курить бросил. За все время, пока лежал, может, пару раз пыхнул у кого-то, кто приходил проведать. Но когда уже вышел из больницы и докторов рядом не стало, жутко потянуло. Он не выдержал, разрезал «Приму» на три равные части и, чтобы не жечь губы, купил небольшой мундштучок. Курил, когда уж совсем невмоготу было — утром, после обеда и на ночь. Всего одна сигарета получалась — это, конечно, ничего. Даже доктору не стал говорить об этом.
Да и день сегодня был какой-то хороший. Он вчера взял в библиотеке шесть томов Толстого и читал до часу ночи. Проснулся в легком, радостном настроении. И тут тополь. Нельзя, конечно. Совсем нельзя было этого делать, была бы Ленка дома, так та не дала бы, но она сорвалась на один день к матери в деревню — потолок белить, и бабе Ксении можно было помочь. Он всегда им с дедом Моисеем помогал, а тут… без деда она не управится. Миша, с удовольствием щурясь на высокую голубую стопку книг, как бы обещая скоро вернуться, взял мундштук и три коротеньких сигареточки.
Тополь был метров двадцать пять, толстый и корявый в комле, и Миша решил начать с хлыста. Надо как-то потихонечку, втянуться, а там посмотреть. Он поплевал на большие свои ладони и, прикинув двухметровую плеть, сделал первый зарез.
Пила тонкая, но жесткая, кованая еще, старой работы, легко грызла рыхлую тополиную мякоть. «Тополь — не вяз, и не береза, тополь — ерунда. Было б здоровье — к обеду попилил бы и поколол», — так он думал, а сам нет-нет, а прислушивался к своей левой стороне. Хоть и перенес инфаркт, а так и не понял, как это болит. Как будто тошнило, что ли, и тяжесть все время была, и вроде немело слева, но все равно непонятно. Доктор сказал, что так бы и помер, если бы жена не кинулась за «скорой».
Он никогда ничем не болел. За всю жизнь вырвали один зуб и один раз надорвался — со станка падала готовая «деталь» килограммов на двести, и он удержал ее, пока не подоспели мужики от соседних станков, — и полежал в больнице неделю. И вот — инфаркт.
Миша остановился передохнуть. Откинул волосы со лба. Вытер пот. Он дошел уже до толстой части и пилил на короткие чурбаки, такие, чтобы сразу можно было и колоть. Да и таскать такие легче. Он сел на один из них.
Распогоживалось. Небо заголубело, и все вокруг оживало, распрямлялось после ночного ненастья. Тихонов достал третий уже сегодня, как он их называл «окурочек», вставил в мундштук. Нигде не болело. И он улыбнулся. Он, если по-честному, так и думал проверить себя. Может, и нет у него никакого инфаркта, может, чего и было, а теперь уже нет. Ошибаются же доктора. Как это так — не болело, не болело, и вот на тебе. И он снова заставил себя довольно ухмыльнуться — треть тополя проехал, а здоровье, как у молодого, даже и не вспотел.
Но это была неправда. Он и вспотел, и слабость чувствовал во всем теле, даже руки дрожали, но он списывал все на месячное безделье — тяжелее ложки ничего в руках не держал, — скорей бы уж на завод. Но доктор этого не обещал. Говорил, надо ждать. И пугал, водя пальцем по кардиограмме.
Баба Ксения пришла. Принесла воды. Подала и смотрела внимательно, как он пьет. Глаза нежные, как у девушки. Тихонов всегда их стеснялся и вспоминал свою мать. Мать такая же была. Тихая. Даже светлый пушок на верхней губе такой же. И белый платочек, завязанный под подбородком. Баба Ксения забрала кружку и ушла. Ничего не сказала, просто пошла, вытянувшись кривой спиной над тропинкой, посвечивая локтями в дра-ненькой кофте. В глубине сада на лавочке ее ждала какая-то женщина.
Миша снова взялся за дело. Встал на мокрое колено, левой рукой уперся в гладкий ствол. Шинь-жин-нь, шинь-жин-нь, шинь-жин-нь. Пила глухо позванивала, сыпала сырые опилки и уходила в тонкий разрез.
Миша думал про бабу Ксеню. Тяжело ей без деда. Вдвоем-то они как-нибудь, а тут все одна. И молельня теперь на ней. Народ-то, вон, ходит. Она, наверное, теперь за попа у них, или может, еще кто. Миша хорошо не знал этого. Молельную комнату видел. Икон много старых. Книги кожаные толстые. Но он в это дело не совался. Видел, что ходят люди, но все как-то тихо. Поговаривали даже, что не староверы они, а сектанты какие-то. Миша не верил. Что дед, что бабка были для него почти святыми. Особенно — она. Пятерых детей по ссылкам, да лагерям потеряла, и ничего. Ни разу ни слышал Миша, чтобы она кого-то осудила или на что-то пожаловалась. О детях своих вспоминала так просто, как будто они прожили нормальную жизнь.
Баба Ксения, склонившись, сидела на лавочке напротив женщины и держала ее за руку, и та тоже склонилась и что-то рассказывала, время от времени вытирая глаза платком.
До обеда он уже не останавливался. Ширкал потихонечку. Подрубал топором, где не удавалось перепилить до конца. Соседи приходили. В сараях у каждого был погреб. Кто за картошкой, кто за чем. Здоровались. Мужики курили, что-то советовали, помогали крутануть бревно поудобнее. Бабы вздыхали по переломанным яблоням да вишням.
Обедать не стал. Не хотелось. Попил компота, посидел в кухне, даже и прилечь почитать потянуло, разленился все-таки за месяц, но не стал ложиться. Боялся, что ляжет и уже сегодня не закончит. Выпил на всякий случай вонючих капель и вернулся к тополю.
К вечеру дело было сделано. Вчера еще живое дерево змеилось по земле кривым рядком чурбаков с ровными белыми спилами. Колоть их сил уже не было. «Завтра поколю», — думал Тихонов. И хоть чувствовал он и слабость, и дурноту, и даже рука левая от самого плеча слегка онемела, хорошо ему было. Так всегда бывало после завершенного дела.
И он почему-то уже не боялся ничего. Устал, наверное. Не торопясь поднимался по лестнице. Доктор велел медленно ходить.
Дверь была не заперта. Ленка сидела на кухне, оперевшись на край стола, только что вошла, видно, и внимательно смотрела на него. У ног сумки стояли неразобранные. С картошкой.
«Как и дотащила-то», — подумал Миша. Он никогда ее не провожал и не встречал, только в молодости, а тут ему вдруг жалко стало, что не сходил к остановке.
Ночью Мише вызвали скорую, и увезли в больницу. Анька Новичкова не спала. Все из окошка выглядывала — не помер ли. Хотела выйти, у Ленки спросить, но не вышла.
А тополь на другой день покололи и сложили в дровник к бабе Ксении.
Новичков с Тренкиным покололи.
КОМАНДИРОВКА
Митя Переверзев был человеком обязательным. Наверно, поэтому и обязанностей у него было невпроворот. У него была газета, в которой он работал главным редактором. Были хозяева этой газеты. Много разных друзей. Старики-родители. Ну и жена, конечно, и двое детей — Юра и Катька. В последний год еще подруга была. Красивая и замужняя.
Может, в этом и нет ничего особенного — более-менее как у всех. Но Митя был обязательным. Он честно старался сделать все, что должен был, и у него не получалось. Другие как-то плюют да и живут себе, но то — другие, а Мите от этих несделанных дел — тоскливо, а иногда и страшно становилось.
А случилось-то, собственно, вот что. Обязательный человек Митя Переверзев опоздал на самолет. Должен был лететь в командировку в Италию на три дня. По дороге из дома в аэропорт заскочил к подруге — иначе обиделась бы — и опоздал.
Он влетел на стоянку в Шереметьево и окончательно понял, что бесполезно. Посадка давно закончилась. Митя ткнулся лбом в руль и тихо выругался.
Было раннее мартовское утро. С темного еще неба снежная крупа косо влетала в желтый свет фонарей и противно, назойливо секла по стеклам, как будто точно зная, что в этой машине сейчас никого не должно быть. Митя чувствовал себя виноватым, что нечаянно нарушил какое-то правильное течение жизни, и теперь одиноко, как наказанный сидел в своей машине и барабанил пальцами по рулю, а жизнь равнодушно текла мимо.
«Странно, — растерянно морщился Митя, — только что несся как угорелый, и вот уже никуда не надо. В редакцию — рано, домой — крюк большой, да и Ольга расстроится». Подумал вернуться к подруге, но это уже было невозможно, и не хотелось… ладно бы ждала. Он вспомнил, как идиотски хмурясь на соседские двери, названивал к ней и как она наконец выглянула заспанная и обниматься начала прямо в прихожей, хотя видно было, что ей больше хочется спать.