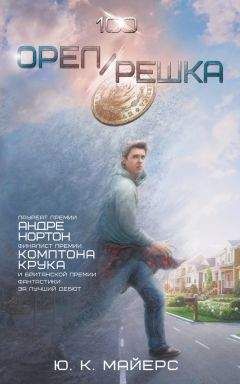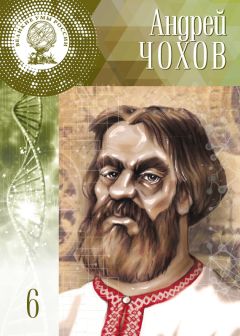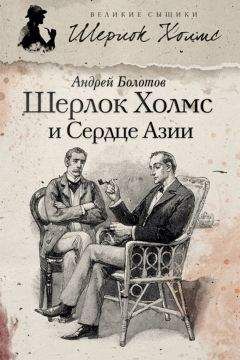Андрей Макин - Французское завещание
Но магия, которую я только что опробовал, казалось, опять вышла из повиновения. Память помимо моей воли воспроизвела совсем другую картинку прошлого. Я увидел красивого мужчину в черном посреди роскошного кабинета. Беззвучно отворялась дверь, женщина, с лицом, закрытым вуалью, входила в комнату. И Президент весьма театрально заключал свою возлюбленную в объятия. Да, то была та самая тысячекратно подсмотренная сцена тайного свидания Елисейских Любовников. Вызванные на бис моей памятью, они послушно сыграли ее еще раз в ускоренном темпе водевиля. Но теперь мне этого было недостаточно…
Преображение трех красавиц позволяло надеяться, что чудо можно повторить. Я хорошо помнил ту простую фразу, которая его вызвала: «Но ведь было все-таки в их жизни это ясное, свежее осеннее утро…». Подобно ученику чародея, я снова вообразил усатого красавца в кабинете у черного окна и прошептал магическую формулу:
– А все-таки был в его жизни один осенний вечер, когда он стоял у черного окна, за которым качались голые ветви Елисейского сада…
Я не уловил, в какой момент граница времен растаяла… Президент невидящим взглядом смотрел на колеблющиеся тени деревьев. Его лицо было у самого окна – вот на секунду стекло затуманилось от дыхания. Он это заметил и чуть кивнул в ответ своим безмолвным мыслям. Я догадался, что он чувствует, как странно туго стягивает тело смокинг. Он не узнавал в себе, в этом незнакомце, себя. Да, какое-то чуждое, напряженное существование, которое он должен обуздывать своей кажущейся неподвижностью. Он думал… нет, не думал, но чуял где-то в мокрой тьме за окном все ближе, все роднее присутствие той, что скоро войдет в эту комнату. «Президент Республики, – тихо и медленно проговорил он по слогам. – Елисейский дворец…» И вдруг ему показалось, что эти, такие привычные слова не имеют к нему никакого отношения. Он остро, сильно ощутил себя мужчиной, который вот-вот с новым волнением коснется мягких, теплых женских губ под вуалью, искрящейся ледяными капельками…
Несколько секунд я на собственном лице ощущал это контрастное прикосновение.
Я был и возбужден, и разбит колдовскими перевоплощениями прошлого. Сидя на балконе и слепо уставясь в степную ночь, я дышал часто и прерывисто. Но эта временная алхимия становилась уже, несомненно, манией. Не успев толком прийти в себя, я опять повторил свое «сезам, откройся»: «А все-таки был в жизни того старого солдата один зимний день…» И увидел старика в конкистадорской каске. Он шел, опираясь на длинную пику. Лицо его, раскрасневшееся на ветру, было замкнуто в горькой думе: о старости, об этой войне, которая и после его смерти все будет продолжаться. Вдруг он почуял в тусклом воздухе стылого дня запах горящих дров. Приятный, немного едкий привкус мешался с холодной свежестью изморози на голых полях. Старик глубоко вдохнул терпкий зимний воздух. Отсвет улыбки оживил его суровое лицо. Он чуть прищурился. Это и был он – тот человек, что жадно вдыхал морозный ветер, пахнущий дымком очага. Он. Здесь. Сейчас. Под этим небом… И вот предстоящая битва, и эта война, и даже собственная смерть показались ему совсем незначительными событиями. Да, всего лишь эпизодами неизмеримо большей? судьбы, которой он станет – уже бессознательно стал – сопричастен. Он дышал полной грудью, он жмурился и улыбался. Он чувствовал, что мгновение, которое он сейчас переживает, и есть начало этой предугаданной судьбы.
Шарлотта пришла, когда уже стемнело. Я знал, что иногда она целый вечер про водит на кладбище. Она полола и поливала цветы на могиле Федора, чистила плиту, увенчанную красной звездой. Уходила, когда начинало смеркаться. Шла она медленно, через всю Саранзу, по пути присаживалась отдохнуть где-нибудь на скамейке. В такие вечера мы не выходили на балкон…
Она вошла. Я, волнуясь, прислушивался к ее шагам в коридоре, потом на кухне. Мне хотелось тут же, пока не передумал, попросить ее рассказать о Франции ее юности. Как раньше.
Мгновения, в которых я побывал, представлялись мне сейчас какой-то странной игрой с безумием, прекрасным и в то же время пугающим. Отрицать их было невозможно – само мое тело еще хранило их светящееся эхо. Я действительно их пережил! Но из какого-то подспудного духа противоречия – смеси страха и взбунтовавшегося здравого смысла – мне теперь надо было развенчать свое открытие, разрушить мир, какие-то частицы которого я подглядел. Я ждал от Шарлотты умиротворяющей детской сказочки о Франции времен ее юности. Какого-нибудь воспоминания, привычного и гладкого, как фотография, которое помогло бы мне забыть мимолетный приступ безумия.
Она отозвалась не сразу. Конечно, она поняла, что если я решился на такое нарушение установившегося обычая, значит, меня вынудила к тому важная причина. Должно быть, ей вспомнились все наши разговоры ни о чем за последние недели, наша традиция рассказов на закате – ритуал, который я предал этим летом.
С минуту помолчав, она вздохнула, пряча улыбку в уголках губ:
– Да что ж я могу тебе рассказать? Ты теперь сам все знаешь… Погоди, лучше я прочту тебе одно стихотворение…
Так началась самая необычная ночь в моей жизни. Потому что Шарлотта долго не могла отыскать нужную книгу. И с той чудесной свободой в обращении с заведенным порядком, какую нам случалось в ней наблюдать, она, женщина вообще организованная и аккуратная, превратила ночь в долгий, как бы предпраздничный вечер. На полу громоздились книжные груды. Мы взбирались на столы и обшаривали верхние полки. Книги нигде не было.
Только часам к двум ночи, разогнувшись над живописным развалом книг и мебели, Шарлотта воскликнула:
– Какая же я глупая! Я ведь начала читать эти стихи вам с сестрой, помнишь, прошлым летом? Начала и… Не помню. Только мы тогда остановились на первой строфе. Значит, она должна лежать вон там.
И Шарлотта наклонилась к шкафчику у балконной двери, открыла его, и там, рядом с соломенной шляпой, мы увидели ту самую книгу.
Я сидел на ковре и слушал, как она читает. Настольная лампа, стоявшая на полу, освещала ее лицо. На стене удивительно четкие, как вырезанные, лежали наши тени. Время от времени в балконную дверь врывались клубы холодного воздуха из ночной степи. Голос Шарлотты звучал в тональности тех особенных слов, к эху которых прислушиваешься годы спустя:
…Душа на два столетья молодеет,
Едва дохнет та песня стариной…
Век Ришелье; я вижу, как желтеет
Вечерний свет на отмели речной.
В кирпичном замке с цоколем из камня
Оранжевые отсветы стекла,
В огромном парке каменные скамьи,
Среди цветов речные зеркала.
И дама за оконной филигранью;
Она светла, но томен ее взор,
И, верно, я в ином существованье
Его встречал… и помню до сих пор.
Больше в эту странную ночь мы не обменялись ни словом. Прежде чем уснуть, я думал о человеке, который полтора века назад в стране моей бабушки отважился вы разить словами свое «безумие» – пригрезившееся мгновение, более истинное, чем самая реальная реальность здравого смысла.
Наутро я проснулся поздно. В соседней комнате порядок уже был восстановлен… Ветер переменился, теперь он нес горячее дыхание Каспия. Вчерашний холодный день казался очень далеким.
Около полудня мы, не сговариваясь, вышли в степь. Мы молча шли рядом, огибая дебри Сталинки. Пересекли узкие рельсы, заросшие сорными травами. Издали свистящим окликом оповестила о своем приближении «кукушка». Показался маленький состав, бежавший словно между букетами цветов. Он поравнялся с нами, пересек нашу тропку и растаял в знойном мареве. Шарлотта проводила его взглядом, а потом, когда мы уже пошли дальше, проговорила тихо, почти шепотом:
– Мне как-то довелось в детстве ехать на поезде, который был немножко родственником этой «кукушки». Только он был пассажирский и долго петлял со своими маленькими вагончиками по Провансу. Мы ехали погостить несколько дней у тети, которая жила в… Нет, забыла, как назывался тот город. Помню только солнце, которое прямо-таки затопляло холмы, и звонкое и сухое пение цикад, когда мы стояли на маленьких сонных станциях. А на тех холмах, сколько хватало глаз – бесконечные поля лаванды… Да, солнце, цикады и эта густая синева, и этот запах, который ветер заносил в открытые окна…
Я шел рядом и молчал. Я чувствовал, что отныне «кукушка» станет первым словом нашего нового языка. Того самого языка, который может выразить невыразимое.
Через два дня я уезжал из Саранзы. Впервые в жизни молчание последних минут до отхода поезда не тяготило меня. Я смотрел из окна на Шарлотту, стоявшую на перроне среди людей, которые жестикулировали, как глухонемые, боясь, что отъезжающие их не слышат. Шарлотта молчала, а встречая мой взгляд, чуть заметно улыбалась. Слова нам были не нужны.