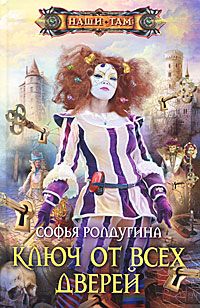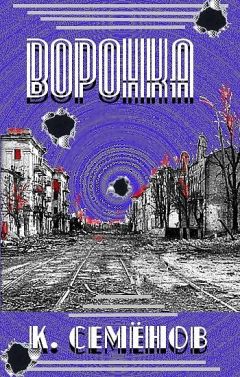Василий Аксенов - Ожог
– … дорогие товарищи дорогой кукита кусеевич с этой высокой трибуны я хочу критика прозвучавшая в мой адрес справедливая критика народа заставляет думать об ответственности перед народом перед вами мадам прошу прощения оговорка истинно прекрасные образы современников и величие наших будней среди происков империалистической агентуры дорогие товарищи как и мой великий учитель маяковский который по словам незабвенного Иосифа Виссарионовича был и является я не коммунист но…
Мощный рык Главы ворвался в дыхательную паузу Пантелея:
– И вы этим гордитесь, Пантелей? Гордитесь тем, что вы не коммунист? Видали гуся – он не коммунист! А я вот коммунист и горжусь этим, потому что я сын своего класса и никогда от папаши не откажусь! (Бурные продолжительные аплодисменты, крики «Да здравствует дорогой Кукита Кусе-евич!», «Слава ведущему классу!», «Позор Пантелею!», «Позор палачу португальского народа Салазару!») Распустились, понимаете ли! Пишут черт-те что! Рисуют сплошную жопу! Снимают дрисню из помойной ямы! Радио включишь – шумовая музыка-джаст! На именины придешь – ни выпить, ни закусить, сплошное ехидство! Мы вам здесь клуб Петефи устроить не дадим! Здесь вам не Венгрия! По рукам получите, господин Пантелей! Паспорт отберем и под жопу коленкой! К тем, кто вас кормит! В Бонн! (Бурное одобрительное оживление в зале, возгласы «за границу Пантелея!», «всех их за границу!», «психи, шизоиды, за границу их, в Анадырь!».)
Пантелей (на грани обморока, морозным шепотом): Кукита Кусеевич, разрешите мне спеть!
– Книжку недавно одну взял, – тихо продолжал Глава, набирая силы для нового взлета. – Тошнить стало, товарищи. Не в коня пошел корм, товарищи (смех, аплодисменты). Ни пейзажа, товарищи, ни стройной фабулы, ни одного рабочего даже на уровне райкома нету. Ни зима, ни лето, товарищи, а попадье кочерга в одно место! (Долгий несмолкающий смех, переходящий в слезы.) Да в другие времена за такую-П книжку! Семь шкур! С сочинителя! С жены-П! С детей! Сняли-П! – Теперь голос Главы звенел в самых верхних регистрах и вдруг, погашенный хитроватой улыбочкой, слетел вниз. – Я имею в виду, товарищи, времена неистового Виссариона, нашего великана Белинского, а не что-нибудь еще. (Бурныедолгонесмолкающиепереходящиевтопот, одинокий возглас с армянским акцентом «хватит демократии, пора наказывать!», добродушный смех – ох, мол, эти кавказцы.) Вот так, господин Пантелей! История беспощадна к ублюдкам и ренегатам всех мастей, а особенно одной, которую все знают!
Пантелей (из пучин обморока): Разрешите мне спеть, дорогие товарищи!
Крики из зала: Не давать ему петь!
На виселице попоешь! За границей!
Знаем мы эти песни!
Глава поднял вверх железные шахтерские кулаки. Сверкнули на нейлоновых рукавах бриллиантовые запонки, подаренные народом Камбоджи.
– Всех подтявкивателей и подзуживателей, всех колорадских жуков и жужелиц иностранной прессы мы сотрем в порошок! Пойте, Пантелей!
Незадачливый ревизионист растерялся от неожиданной милости. Он взялся обеими руками за трибуну, набрал в грудь воздуха, собираясь грянуть «Песню о тревожной молодости» или «Марш бригад коммунистического труда», как вдруг рот его открылся сам по себе и медовым баритоном завел совершенно не относящуюся к делу «Песню варяжского гостя».
Большего позора и ждать было нельзя. Пантелей потерял сознание, но и без сознания продолжал упорно петь:
– …велик их Один-бог, угрюмо море…
Глава слушал, закрыв лицо рукой. Зал затаился в злорадном ожидании. Старший сержант гардеробной службы Грибочуев уже готовил реплику «с чужого голоса поете, мистер». Ария кончилась.
– Поете, между прочим, неплохо, – хмуро проговорил Глава.
Пантелей вздрогнул и пришел в себя, оглянулся и увидел, как из-за пальцев поблескивает клюквенный глазик Главы. Ему показалось, что Глава подмигивает ему, будто приглашает выпить.
– Поете недурно, Пантелей. Можете осваивать наследие классиков. Лучше пойте, чем бумагу марать.
Глава встал, оглядел зал, увидел среди неопределенно моргающих деятелей культуры напряженные лица экзекуторов и зло подумал: «Ждут псы. Так и моего мяса когда-то ждали, когда рыжий таракан заставлял казачка плясать. Ждите, ждите, авось дождетесь залупу конскую».
Он начал откашливаться и кехать, и кашель этот и кеханье, прошлой осенью во время Карибского кризиса державшие в отвратительной потной тревоге весь цивилизованный мир, теперь держали в напряжении этот зал, «левых» и «правых», боссов пропаганды и агитации, сотрудников безопасности и внутренней прессы.
Один лишь Пантелей как будто бы ничего и не ждал. Он держался обеими руками за ладью свою, государственную трибуну, и плыл и плыл по волнам истории, а куда – «не нашего ума дело».
– Будете петь с нами, Пантелей, разовьете свой талант, – проскрипел наконец Глава. – Запоете с ними, загубите талант, в порошок сотрем. С кем хотите петь?
– С моим народом, с партией, с вами, Кукита Кусеевич! – спел Пантелей теперь уже нежнейшим лирическим тенором, но, как заметили «правые», без искреннего чувства, а даже с лукавством, с определенным шельмовством.
Глава неожиданно для всех улыбнулся.
– Ну что ж, поверим вам, товарищ – (ТОВАРИЩ) – Пантелей Репетируйте, шлифуйте грани, трудитесь. Вот вам моя рука!
Мощный заряд революционных биотоков влился в поры пантелеевской потной ладони. Восторженные крики либералов приветствовали это спасительное и для них рукопожатие, а сержант гардеробной гвардии Берий Ягодович Грибочуев в досаде ущипнул себя за левое полусреднее яйцо – не вышел номер, не клюнул «кукурузник» на наживку!
…Восьмое марта хлюпало под ногами грязной кашицей, секло ледяным дождем серые, худые, отечные, синюшно-хмельные лица. Сонмы москвичей месили кашу на улице Горького в поисках сладкого. Сладкая жизнь на улице Горького, мало кого из искателей тревожил дешевый парадокс, живущий в этих словах.
Вдруг на Манежной в потоке грязных машин заметалось яркое пятно, похожее на сгусток вчерашнего винегрета, – цыганка с мешком, прижатым к груди, будто вынырнувшая из мусорного коллектора столицы.
Толпа сладкоежек, вывернув из-за «Националя», бежала по тротуару, показывая на цыганку руками:
– Украла!
– Ребенка украла!
Никто, однако, не решался перепрыгнуть через барьер и броситься за цыганкой в поток машин. Брызги со скатов запачкали бы праздничные туалеты.
Прижатые толпой к зеркальному окну «Наца», молча наблюдали за происходящим только что выпущенные из Кремля Сильвестр, Пантелей, Никодим, вожди несуществующей, но уже разбитой армии битников-ревизионистов.
Машины тормозили, шли юзом, сбивались в кучи, толпа ревела, взывая к милиции, милиция, не торопясь, подтягивала силы к месту действия, а грудастая задастая цыганка все металась с бешеным огоньком в глазах, спасая себя и свой мешок, тот, что толпа называла украденным ребенком. Так она отмечала свой Женский день.
Солнце размягчило асфальт Софийской набережной, и на нем видны были теперь следы «Ягуаров» и «Бентли», что веером разошлись из ворот британского посольства. Асфальт проваливался под каблуками дипломатов, как пастозная кожа под пальцем врача. Двое босых мужчин далеко не первой свежести тоже оставляли на асфальте отпечатки своих ступней.
Мужчины держали друг друга под руку и прогуливались вдоль Москвы-реки в уважительной и сосредоточенной беседе, словно какие-нибудь профессора МГУ или академики Ильичев и Лысенко. Стоящий метрах в двухстах фургончик с надписью «Белье на дом» записывал их беседу на магнитную ленту.
– Ты думаешь, что все это ваша пропаганда, а между тем отрезанные уши – это правда. И ядохимикаты, и электроды на гениталиях – тоже правда. Я был во Вьетнаме. Специально поехал в самое пекло. Играл на скрипке этим несчастным скотам, пил с ними. Я сам вместе с ними считал отрезанные уши. Веселились, как помешанные. Ненавижу, ненавижу то, что они называют родиной, эту блядь с прокисшим молоком в титьках. Ничего общего она не имеет с моим детством, с моей ностальгией.
– Ну, что касается нашей красавицы, то ей нет нужды вспоминать о такой ерунде, как отрезанные уши. Кастрация, трепанация, неумелые швы, грязь, нагноение, сукровица – вот наши дела. И все-таки… «люблю отчизну я, но странною любовью»… «какому хочешь чародею…», «о Русь моя, жена моя…» и так далее. Понимаешь ли, я ее люблю.
– Это у вас, русских, варварское, глубоко провинциальное чувство. Притворяетесь без конца каким-то щитом Европы, бубните о каком-то там мессианстве. Вздор это все! Никакой загадочной славянской души, как и никакой великой американской мечты, в нынешнем мире нет. Есть только два чудовищных спрута, гигантские мешки полуживой протоплазмы, которая реагирует на внешние толчки только сокращением или поглощением. Поглощать ей, конечно, приятнее, чем сокращаться.