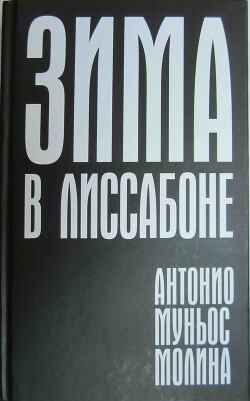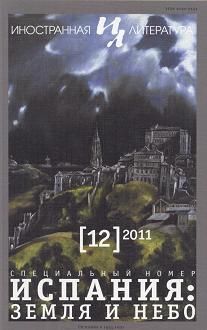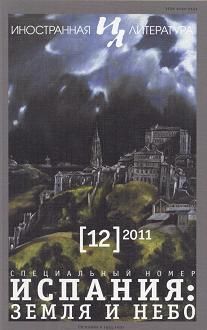Бельтенеброс - Молина Антонио Муньос
Послышался щелчок выключателя, потом скрип пружин. Только встав на ноги, я понял, что перебрал с выпивкой. Чувствовалось нарастающее давление в черепе, будто пальцы гигантской руки сжимали виски. Я попытался вспомнить, когда и где в последний раз спал. Однако все, что случилось со мной до прилета в Мадрид, подернулось дымкой бесконечно далекого прошлого. Я видел, как мои ноги передвигаются в направлении спальни с неуклюжей медлительностью, и мне стало казаться, что это я откуда-то с высоты наблюдаю за шагами Андраде, но только вижу я не тело и не лицо, а одни только ноги, шагающие по тротуарам незнакомых мне улиц, влажных от предрассветного тумана.
— Идите сюда, — раздался голос девушки. — Выпейте со мной.
С порога я окинул ее взглядом. Она прилегла на кровать и в позе застывшей угодливости протягивала мне стакан, словно женщины-аллегории на ложе. Я сел рядом, не касаясь ее, и выпил, рассматривая страх и ложь в ее глазах. Она села, чтобы заново наполнить стакан, а я притянул ее к себе, но в этот миг тело ее обмякло, став инертным и странным, будто тело спящей. Я смотрел на нее и видел, как она замерла, а потом начала теряться в искривленной дали, а на меня что-то внезапно навалилось, какой-то неподъемный груз, и тяжесть эта повалила меня на нее и на подушку, на которой ее уже не оказалось. С абсурдной, как при галлюцинации, четкостью я подумал о том, что воздействие алкоголя становится значительно опаснее, если пьешь натощак.
— Вы очень бледны, — услышал я обращенные ко мне слова. — Лягте. Сейчас принесу вам мокрое полотенце.
Вытянув руку, она коснулась моего лба. Сказала, что у меня жар, хотела встать, а я захотел ее удержать, но она не далась, резко отвернув голову. И снова затерялась во тьме и в дали, а я снова попытался подняться, но мне показалось, что руки мои — в тяжелых путах, а тело никогда больше не подчинится моей воле. Послышалось бульканье, вода из крана пошла не сразу, и от металлического лязга и клокотания в трубах мне вдруг до смерти захотелось пить. Когда вновь послышались приближавшиеся шаги, я подумал, что это не ее шаги, но уже не смог поднять веки, чтобы в этом удостовериться.
11
Кто-то смерил меня взглядом с верхушки вертикальной тени, темным пятном отраженной в зеркале трюмо, по которому инеем расползался призрачный свет утра. Кто-то назвал меня по имени, потом — чье-то тяжелое дыхание на лице, пока ловкие пальцы — их было множество, словно по мне бегали какие-то зверьки, топоча лапками и обнюхивая мордочками, — залезали в карманы, прощупывали складки одежды, а я при этом пытался защищаться с упорством, существовавшим исключительно в моем воображении: мне грезилось, что я метался и отбрыкивался, хотя оставался неподвижен; как будто я стискивал зубы с такой яростью, что те едва не крошились во рту, и силился поднять веки, жмуря их до рези в глазах. Кто-то в этой комнате дышал, рядом со мной, но когда я подумал, что глаза мои наконец-то открылись, стало понятно, что мне это только показалось и то, что я вижу, не более чем обрывки сна, настолько неотличимого от реальности, что тень, пристально глядевшая на меня, почти ничем не отличается от двойника в зеркале. Кто-то ходил совсем рядом со мной, выворачивая содержимое ящиков, швыряя на пол костюмы и книги Андраде, его тень время от времени застила свет, падавший на мои плотно сжатые, словно заклеенные пластырем, веки. Как слепой паралитик, жестоким сном перенесенный в те времена, когда он еще мог двигаться и видеть, я силился подняться, но тело мое лишь корчилось и дергалось в тщетных спазмах. Я стискивал зубы, вонзал ногти в бесчувственную кожу ладоней, сознавая, что отчаянным усилием воли смог бы открыть глаза и избавиться от удушья, но это было невозможно: чьи-то руки ощупывали меня, и горячее, смердящее табаком дыхание оседало испариной у меня на лице, и это дыхание исходило из открытого мясистого рта, который повторял мое имя и задавал вопросы, на которые я, быть может, даже отвечал, заплутав в лабиринте безумия.
Проснулся же я, лежа животом на пороге спальни, а в ушах шипело неумолчное потрескивание, как будто постреливали сухие ветки в костре или волны перекатывали прибрежную гальку. Опираясь на локти, я пополз вперед, увлекая за собой свое тело и простыни, в которых я запутался ногами, упав с кровати; припоминая, что вроде бы я пытался сражаться против чего-то или кого-то, что какая-то тяжесть давила мне на легкие и я был окончательно выбит из седла, потеряв последнюю ниточку, держащую меня в сознании. Шелест гальки или потрескивание то ли сухих листьев, то ли хвороста переросло в мираж: клочковатый занавес, сотканный из быстрого мелькания снежных хлопьев и точек света, то меркнущих, то вспыхивающих перед глазами. Я, конечно, проснулся, но все еще не знал, кто я и где нахожусь, и чтобы разобраться в этом, мне пришлось за бесконечно длящийся миг припомнить все наиболее неприятные пробуждения в своей жизни — те, что я помнил всегда и которые давно позабыл: пробуждения времен войны, в сырых бараках или под серым и чужим небом, пробуждения из далекого детства и даже те, что предстояли мне в будущем. Кое-как я встал на ноги. Нагнувшись над столешницей, оперся о скользкую кромку стола и увидел монотонную рябь, мельтешащую на экране телевизора. Выключил телевизор и сразу возблагодарил небеса за тишину как за чудодейственное снадобье против безумия. Восприятие пространства стало понемногу возвращаться, однако я все еще блуждал в густом тумане времени. Кто-то потрудился растоптать мои часы: стрелки оказались сломаны, стекло — в порошок. Низкий, затянутый тучами, горизонт за окном не давал ни единого шанса понять, это все еще утро или уже вечереет. С окрестных пустырей тянулись к небу недостроенные дома в окружении котлованов и неподвижных строительных кранов. По дороге к окну я заметил свой плащ — он лежал на полу — и сразу вспомнил о пистолете, а также конверте с деньгами и фальшивым паспортом для Андраде. Повсюду пепел и коротенькие, скуренные до самого фильтра, окурки. Искать бесполезно. Пальцы, что бегали по мне, когда я проваливался в сон, и словно собрались всего меня искусать, обшарили и карманы плаща, забрав все подчистую, в том числе металлическую полоску, которой я так ловко взломал замок магазина.
Обессиленно сев на диван, не выпуская из рук плащ, скорбно повисший знаменем поражения, я вновь погрузился в давно знакомое ощущение разгрома. Сидел и прощупывал складки одежды, как нищий в поисках последней, чудом сохранившейся монетки, обложенный, словно ватой, похмельем и дурнотой от снотворного, навалившегося стыда и горького сожаления о выпитом накануне. От прошедшей ночи в памяти не осталось почти ничего, за исключением уверенности в том, что меня ловко обвели вокруг пальца и что я, в общем-то предполагая подобное, не сделал для своей защиты ровным счетом ничего, увлекшись спиртным, отравленный ностальгией и желанием, околдованный и оцепенелый; хотя и понимал, что все вокруг с каждой минутой становится все более странным — освещение в спальне, полулежащая женщина, которая протягивает мне стакан с янтарного цвета содержимым, после чего — провал, перепачканные красным губы, которые я, быть может, пытался поцеловать, но не помнил точно, и отсутствие памяти о финале усугубляло острые уколы стыда.
Одну за другой я обошел все комнаты, не имея ни малейшего представления, на что надеялся и чего искал: уж точно не пистолет и не документы Андраде, но вдруг хотя бы бумажник или собственный паспорт — хоть что-то способное свидетельствовать, что я все еще кто-то, человек, который вчера вечером прилетел в Мадрид и сможет без проблем пройти паспортный контроль, таможню и вернуться в Англию, домой, и обо всем забыть. Дарман — именно это имя значилось на моих визитках, прямоугольничках белого картона, оно стояло и на вывеске моей книжной лавки, прямо над дверью, что звоном колокольчика возвещает о визите. В спальне я опустился на колени, чтобы поискать среди вывороченных ящиков и их содержимого, и принялся откладывать в сторону вещи Андраде — его рубашки, его костюмы, брошенные на пол, с грязными следами подошв, — и вот там, под кроватью, нашелся мой паспорт и пара-другая монет. И только тогда, со вспышкой трепетного счастья, с трудом отличимого от гнетущей тоски, я вспомнил, что на вокзале, в камере хранения, оставил дорожную сумку. Но память меня то и дело подводила, куда-то проваливаясь, — так же, как совершенно неожиданно я вдруг потерял равновесие, выпрямляясь во весь рост. Я испугался, что не смогу вспомнить, куда положил ключ. И снова стал обшаривать пустые карманы, хотя знал, что там он оказаться никак не может. Плащ, брюки, пиджак, внутренние карманы, подкладка, дрожащие пальцы, еще один приступ тоски. Нет, они никак не могли его забрать: я точно помнил, что спрятал его, и спрятал очень хорошо, но только не помнил куда. И жуткая перспектива, что я так этого и не вспомню, была вполне вероятной. Плоский такой ключик, с номером, и номер этот — двести двенадцать. Из предосторожности я его не засунул под внутреннюю ленту шляпы. Куда же тогда? С лихорадочной тщательностью, шаг за шагом я перебирал в памяти все свои действия, но где-то на середине последовательность событий исчезала, словно разъеденная кислотой. Когда я выходил из здания вокзала, ключ был у меня в руке. Где-то я сделал остановку и только после этого отправился в магазин. Пистолет тогда все еще был в пакете. От пакета пахло одеколоном и мужским лосьоном. Память на запахи оказалась более надежной, чем память о собственных действиях: аромат одеколона смешивался с сильным запахом мочи. От пакета я избавился только в туалете бара. Каждый образ каким-то неимоверным усилием воли связывался с другим, словно каждый шаг я совершал, двигаясь по краю пропасти, в любой миг рискуя лишиться сознания и опять все забыть. Шум воды в сливном бачке, пистолет в свежей смазке у меня в руке. Пистолет я положил в карман, потом куда-то засунул ключ от камеры хранения. Куда?