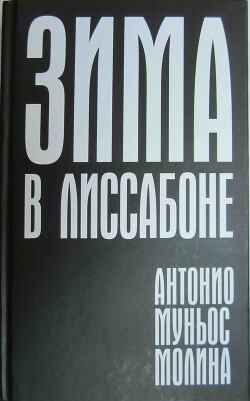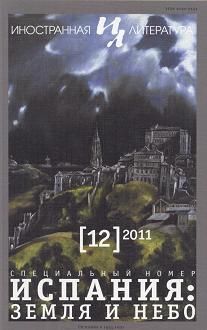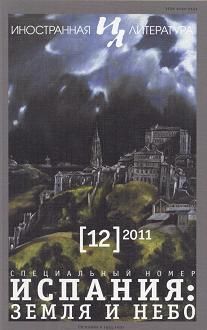Бельтенеброс - Молина Антонио Муньос
— Вы заснули, — произнесла она. — Неужто полиции не боитесь?
— Не исключено, что вы и есть полиция.
Я лихорадочно вспоминал, где оставил пистолет. Она села напротив и обессиленно выпустила из рук сумку. Казалось, что последние два или три часа вымотали ее до предела. Интересно, сколько времени она смотрела на спящего меня, стоя у дивана и осторожно, чтобы не разбудить, снимая пальто. Даже не пальто, а черную шубу, грудой осевшую на полу. Быть может, она хотела дать мне понять, что эта вещь ей не дорога. Она отпихнула ее ногой, нагнувшись за сигаретой — пачка была в сумке.
— Он тоже мне не доверял, — сказала она. — Поначалу.
— Андраде?
— Кто же еще?
Тот мужчина, из ложи. — (Тут ноздри ее расширились, выпуская дым.) — Он сделал вам больно тогда, в магазине. Вы застонали, как от укола.
— Ничего он мне не сделал. — Ее презрительная гримаска явно относилась не только к тому человеку: среди адресатов был и я — тот, кто прятался, подслушивал, стремился увидеть. — Это было недолго.
Я вспомнил ее приглушенный стон в темноте, потом у человека с кривой спиной; всплыло в памяти и его лицо за стеклом такси, похожее на моллюска. Сама по себе мысль о том, что — подумать только! — достаточно заплатить некую сумму, чтобы женщина, так холодно бросающая реплики, разделась бы для меня и мне отдалась, — безвольно, возможно, с ненавистью в душе, возможно, только изображая страсть и требуя кульминации, чтобы сократить насилие, — явилась смутным подтверждением желания. Андраде ей доверял. Я был уверен, что если он чего-то и опасался с ее стороны, то вовсе не предательства, а самого существования этой девушки, совершенства ее кожи и того взгляда, каким она смотрела на него; страшился уже свершившейся и, стало быть, неотменяемой случайности их знакомства, того, что он навсегда и безвозвратно ей принадлежит. Целуя ее, он думал, наверное, о суровости судьбы, явленной ему в образе женщины и бледной девочки с локонами, думал о том доме, где обе ждали его возвращения, пугаясь писем и неожиданных телефонных звонков, — лишенные родины и своего угла, гости в далекой стране с невыносимо холодными зимами, стране, населенной людьми с безжизненными синими глазами, язык которых решительно невозможно понять.
— Расскажите мне об Андраде, — попросил я. — Как вы с ним познакомились, когда видели его в последний раз?
Она несколько раз стукнула сигареткой по волнистой поверхности серебряного портсигара. Потом подняла сигарету вверх, положила ногу на ногу и замерла, ожидая, пока я поднесу ей огня. Во всем ее облике сквозило усталое притворство: так она могла бы сидеть в кабаке, облокотясь на барную стойку, бросая призывные взгляды на незнакомых мужчин.
— Вы его бросили, — сказала она, выдыхая дым, пока поднимала от зажигалки голову. — Он бежал из тюрьмы, но никто не пришел ему на помощь, а я, я ведь ничегошеньки не знаю: ни за что его арестовали, ни чем он, собственно, занимается. Скачала я думала, что он коммивояжер или в банке работает. Как-то так выглядел. У него вообще было на лбу написано, что женат и жену с детишками любит. Но толком я ничегошеньки не знаю — вопросов никогда не задавала.
— Он не рассказывал вам, за что его преследуют?
— Сказал, что мне будет лучше ничего и не знать. Он ведь всегда за меня боялся: со мной, дескать, что-нибудь может случиться. Но на самом деле все было наоборот — это я за него боялась. Каждую ночь, за одним и тем же столиком, с таким-то лицом, да еще в окружении клиентов ночного клуба. Так что каждый раз, когда его там не было, я начинала думать, что он никогда больше и не появится. И вот однажды ночью выхожу я на улицу и вдруг вижу его — на том самом углу, где он ждал меня в самом начале. Стоял, прислонившись к стене, руки вместе, вот так, на животе, в общем, как пьянчуги, которые на ногах уже еле держатся. Я к нему подошла и тогда увидела наручники.
— Это он попросил вас отвезти его в магазин?
— Я вызвала такси. А руки он накрыл моей шубой.
— И как вы сняли с него наручники?
— Шпилькой! — выпалила она. — Шпилькой для волос. Он меня научил.
— Это довольно сложно.
— У меня получилось. Он был насквозь мокрый. И запястья разодраны, все в крови.
— И вы каждый день его навещали? Приносили поесть?
— Поесть и все остальное. Сигареты, книжки. Он говорил о товарищах. Удивлялся, что так долго никто не приходит. Я даже стащила для него в клубе бутылку виски — настоящего, не того пойла, которым клиентов поят. Только вот позабыла, что виски он как раз и не любит. Когда я сюда в первый раз пришла, то тоже с бутылкой. До сих пор, наверное, где-то в кухне стоит.
Говорила она, игнорируя мои вопросы. И делала это из какой-то суеверной потребности говорить об Андраде, преследуя свою цель: чтобы он отделился, стал от нее независим, а упоминание о нем обрело объективное существование. Улыбка тронула ее губы при воспоминании о том, что он не любит виски, будто эта подробность была связана с чем-то очень личным. Сказала, что сейчас принесет эту бутылку. Пошла неуверенно, покачиваясь на высоких каблуках, откинув назад плечи и чуть склонив голову, двигаясь с медлительной небрежностью или бесцеремонностью, словно вернувшись с вечеринки, где слегка перебрала. Явно уже где-то выпила и имела намерение продолжить. С собой принесла — в дыхании и на коже, в густой гриве темных волос и на одежде — следы табачного дыма, алкоголя и закрытого помещения.
Увидев, как она возвращается с бутылкой и парой стаканов, я догадался, что раньше Андраде точно так же, как теперь я, смотрел на нее с этого самого места; терзался нетерпением, замерев в ожидании, стремясь считать с ее кожи чужие запахи, а потом — истощенный, голый, прижимался белым животом к ее бедрам, и они делили на двоих пот и обессиленность, и хорошие сигареты.
Она наполнила стаканы и поставила бутылку на стол. Алкоголь придавал голубизне ее глаз холодный пьяный отблеск. Ей хотелось поговорить об Андраде, а я был всего лишь предлогом, симулякром его тени. Пока она о нем говорила, ожидание его возвращения казалось ей не столь долгим. Если Андраде бродит где-то вокруг, по близлежащим пустырям, то он наверняка заметит свет в комнате, где она его ждет. Но могло быть и так, что единственной ее целью было задержать меня, причем как можно дольше, чтобы дать ему время скрыться. Но мне было все равно: я всего лишь хотел слушать ее и глядеть в глаза Ребеки Осорио, предчувствуя ее невозможное возрождение.
Молча, в течение двух или трех часов, я слушал, как она рассказывает об Андраде, сначала в общем, как говорят обычно о знакомом, который где-то далеко. Время от времени он заходил в ночной клуб, неизменно один, словно таясь от других посетителей, да и от нее самой, от бесстыдства ее наготы; появлялся в странном своем костюме, будто полученном в наследство от скончавшегося родственника, с траурно-серьезным лицом неверного мужа, бедного, но честного коробейника, неудачливого коммивояжера. Однажды ночью он пришел рано, когда почти никого еще не было, и занял столик у сцены. Как раз в ту ночь она впервые заметила его и поняла, что этот человек не сводит с нее глаз и всегда ловит ее взгляд, и когда она, выскользнув из платья, предстает обнаженной, невинный и одинокий да столиком, он потягивал спой мани ток и с отсутствующим видом курил, и казалось, что, зажигая сигарету, этот человек мысленно плюсует еще одну к числу уже выкуренных и оценивает результат, сожалея о пагубном пристрастии, демонстрируя полное безразличие ко всему, и том числе к женщинам с накладными ресницами и пышными бюстами, которые подходили к его столику за огоньком или с намеком, что неплохо бы угостить их коктейлем. Она не знала о нем ровным счетом ничего и решительно не могла представить себе, какую жизнь он ведет, после того как уходит из клуба, бросив на опустевшую сцену последний взгляд, безнадежный и сокрушенный, однако то немногое, что ей постепенно становилось о нем известно, выяснялось не тогда, когда он бывал рядом, а исключительно когда он исчезал, — причем так же необъяснимо, как и появлялся, и его отсутствие оказывалось более действенным и несомненным, чем он сам. Степень привязанности к нему открылась ей только после того, как опустел его столик и она подумала, что он никогда не вернется. Однако после двух или трех пропущенных ночей он вновь появлялся — в том же костюме, при том же галстуке, словно и не вставал из-за столика, который только он и занимал, все с тем же бледным лицом и той же лысиной, в сумрачном зале, потягивая коктейль маленькими глоточками трезвенника. Далеко не сразу она осознала, что не одиночество и не стыдливость отличают его от любого мужчины в том зале, а безмерная пропасть его отсутствия; и как только к ней пришло это понимание, она осознала, что связана с ним — человеком, с которым и словом ни разу не перекинулась, — чувством чуть менее беспощадным, чем любовь, но не менее ядовитым: каким то инстинктивным взаимным состраданием к безграничной не защищенности, присущей им обоим. Поначалу она сострадала силе его желании и прежде, чем выйти на сцену, изучала его из-за кулис, подглядывай в щелочку занавеса, старалась найти в его облике черты, пробуждавшие в ней жалость. Она жалела его из-за сморщенного воротничка рубашки и неуклюже завязанного галстука, из-за своей догадки о пропадавшей в нем втуне силе, на которую намекали его руки, сплетенные и неподвижные под голубым абажуром лампы, из-за угрызений совести, источаемых его телом, подобно запаху пота, имеющему обыкновение витать в коридорах гостевого дома.