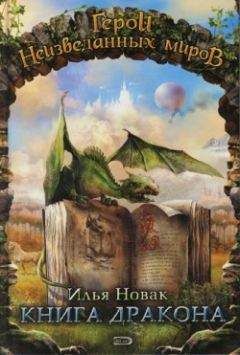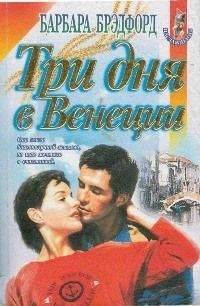Город падающих ангелов - Берендт Джон
Синьор Донадон принялся за еду, и, как только он к ней приступил, в дальнем конце зала началось какое-то движение. В помещение эффектно вторглась группа опоздавших гостей – особенно привлек внимание собравшихся развевавшийся белый шелковый шарф и обилие блеска. Шарф принадлежал высокому стройному мужчине в смокинге и роговых авиационных очках-консервах в стиле тридцатых годов. Мужчина непринужденно обменивался приветствиями со знакомыми, проходя мимо столов. Блестела же его свита: три красивые женщины, на одной из которых сверкали покрытые блестками колготки.
– Наверное, это модели или актрисы, – сказала сидевшая слева от меня женщина, заметив, что я смотрю в их сторону. – Это Витторио Згарби, художественный критик и самопровозглашенный великий соблазнитель Италии. Он уже написал свою автобиографию, а ему всего сорок пять, и он считает себя современным Казановой. Он очень умен и невероятно беззаботен. Он ежедневно выступает с комментариями по телевидению и является раскрученной фигурой национального масштаба.
– Ах, ах, неподражаемый Згарби, – заговорил ее муж. – Думаю, его до сих пор не пускают в Институт Курто в Лондоне. Его не так давно поймали на выходе из института с двумя раритетными старинными книгами. Это событие привлекло общественное внимание не только потому, что Згарби известный критик-искусствовед, но и потому, что он депутат итальянского парламента. Он член палаты депутатов и ни много ни мало председатель комитета по культуре. В тот день в Институте Курто он выступал на симпозиуме о художниках Феррарской школы. Когда Згарби задержали, он сказал, что хотел только изучить книги и сделать фотокопии. В автобиографии он пишет, что его из зависти подставили коллеги-критики.
Згарби как раз проходил мимо нас, одной рукой приглаживая копну своих каштановых волос, а другой обнимая за талию подружку.
Мужчина, сидевший рядом со мной, продолжал, провожая взглядом Згарби:
– Потом еще ходили слухи о каких-то делах между Згарби и пожилой дамой из дома престарелых. Згарби уговорил женщину продать какую-то ценную картину одному своему знакомому арт-дилеру всего за восемь миллионов лир [4000 долларов]. Три года спустя эта картина была продана на аукционе за семьсот миллионов лир [350 тысяч долларов]. Потом выяснилось, что эта картина находилась в хранилище музея Тревизо, который сам имел возможность купить ее у той женщины. Згарби, в то время исполнявший обязанности художественного директора, был обязан проинформировать музей о своей сделке, но не сделал этого. Когда все раскрылось, его допросили по подозрению в мошенничестве и в противозаконной частной сделке, которая была им заключена в то время, когда он находился на официальной должности. Но понятно, что все обвинения в конце концов были сняты.
– Полагаю, это уже нанесло ущерб его карьере, – сказал я.
– На самом деле нет. Поговаривают, он скоро станет следующим министром культуры.
Другим ухом я снова явственно расслышал слово «крыса» – точнее сказать, это было слово pantegana, обозначающее крысу на венецианском диалекте.
– У крыс отсутствует рвотный рефлекс, – говорил синьор Донадон. – Крысы – один из редких биологических видов, которые физически неспособны извергать назад съеденное. Таким образом, они не способны отрыгнуть проглоченный яд. Однако мой яд безопасен, потому что, если его проглотят люди, кошки или собаки, то даже один грамм вызовет неукротимую рвоту до того, как яд подействует.
Женщина, поклявшаяся, что не будет слушать за обедом разговор о крысах, повернулась лицом к синьору Донадону с выражением неподдельной заинтересованности.
– Но если одновременно погибнут сотни тысяч крыс, – сказала она, – то не возникнет ли опасность эпидемии?
– Мой яд обезвоживает крыс, – ответил синьор Донадон, ободряюще похлопав женщину по руке, – он их высушивает, мумифицирует. Поэтому они не гниют и не могут стать причиной эпидемии.
– Но крысы кусают людей, не так ли? – спросила женщина, сморщив нос. – Эта мысль приводит меня в ужас.
– Если крыса вас укусит, то вы, скорее всего, этого не заметите, – сообщил Донадон.
– Да, потому что я буду в шоке.
– Нет, вы не заметите этого, поскольку в крысиной слюне содержится анестетик. Один из наших министров, Риккардо Мисаси, однажды уснув в своей кровати, проснулся от невыносимого зуда в большом пальце ноги. Зуд становился все сильнее, и, включив свет, Риккардо обнаружил, что крысы обгрызли ему палец.
Кажется, синьор Донадон был готов и дальше разрабатывать эту жилу, но тут другие гости начали вставать из-за столов.
– Хочу спросить у вас кое-что, – сказал я, тоже собравшись выйти из-за стола. – Если ваш яд такой эффективный, то почему в Венеции до сих пор есть крысы?
– Все очень просто! – ответил он. – Венеция не использует мой яд. Городской совет одобряет контракты только с самыми минимальными расходами, поэтому я даже не подаю заявок. Я готов внести свой вклад в благополучие человечества, но… – Донадон заговорщически подмигнул, – …но и человечество должно быть готово внести вклад в мое благополучие.
Появление кофе и тирамису дало повод сменить место, походить по залу или спуститься на два этажа в вестибюль, откуда уже доносились звуки оркестра. Оглядывая толпу, я вдруг сообразил, что исчезли маски. Их снимали не просто для того, чтобы облегчить поглощение пищи. Маски принялись сдвигать вверх, заталкивать в сумочки и избавляться от них другими способами задолго до начала обеда. Заметил я, кроме того, что, если не считать декоративных лент или причудливых галстуков, мужчины в основном были одеты в традиционные вечерние костюмы, а не в карнавальные наряды. Женщины также не позволяли себе чего-то большего, нежели некоторые декоративные аксессуары: страусовые перья, экзотические драгоценности, оригинальную прическу или броский макияж. Те же, кто являлся на бал в этот поздний час, едва знали о том, что это карнавальный бал, не говоря уже о том, что он маскарадный или костюмированный.
– Что случилось с духом карнавала? – спросил я у Питера Лоритцена, когда мы спускались на первый этаж.
– Да, этот карнавал уже никогда не будет таким, каким был на пике расцвета декаданса в восемнадцатом веке, – ответил он. – Тогда карнавал был очень мощной институцией. Когда дож Паоло Реньер умер во время карнавала, его смерть скрывали до окончания празднества, чтобы не портить людям настроение.
Возрожденный в двадцатом веке карнавал, кажется, стал урезанной версией самого себя в прошлом. В отсутствие контекста всепроникающего декаданса и даже можно сказать развращенности он стал относительно благонравным праздником, памятником давно исчезнувшего исторического феномена.
– Но не все карнавальные вечера столь же благонравны, как этот, – заметила Роуз. – Я хочу сказать, что даже теперь карнавал иногда проявляет свою низменную суть.
– И где же проходит подобный карнавал? – спросил я.
– Одно такое место – это фестиваль эротической поэзии. Обычно его проводят на Кампо-Сан-Маурицио, где жил поэт восемнадцатого века Джорджио Баффо. Поэзию Баффо обычно стыдливо называют «безнравственной», хотя на самом деле она откровенно порнографическая!
Оркестр на первом этаже играл так громко, что выдавил из дворца всех, за исключением самых увлеченных танцоров, и вскоре мы уже стояли на пристани, ожидая водное такси.
Пока мы ждали, к пристани приблизилась гондола. Она медленно плыла в направлении Сан-Марко и несла на борту пассажиров, двух мужчин. Один был в огромном, косматом и растрепанном парике, черной меховой куртке, черных же лосинах и ярко-красной маске с длинным носом.
Костюм второго был куда более странным. На нем был блестящий красный парик или скорей головной убор в форме округлого конуса, спускавшегося от макушки головы на плечи во всю их ширину. Руки и туловище были свободно задрапированы розовой резиной, а каждое колено заключено в розовую сферу размером с добрую дыню. Смысл этого одеяния стал ясен, когда человек этот стал медленно вставать. Когда он встал, резиновая драпировка натянулась на теле. Изо рта свисала объемистая, похожая на удлиненную жемчужину, опаловая капля.