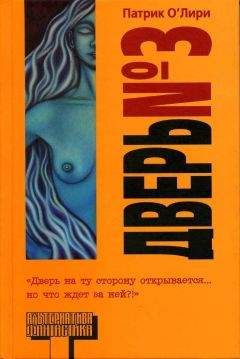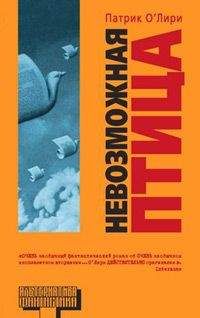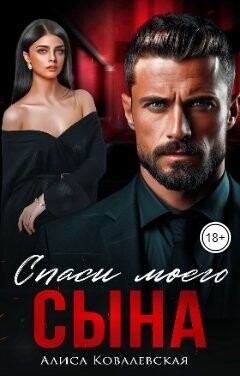Дом Хильди Гуд - Лири Энн
Когда Элли доросла до водительских прав, мы повсюду с Питером ездили. Ему было пять или шесть, когда мы начали брать его с собой на пляж Норт-бич — там мы встречались с мальчиками, заигрывали, лакали коку, курили сигареты и бегали в волнах прибоя в бикини. Элли получала доллар в час, пока Питер был с нами, так что мы повсюду таскали его с собой. Питер впитал весь наш жаргон, что нас очень забавляло. Мы научили его призывно свистеть на симпатичных девиц, незнакомых нам, а когда девицы оборачивались, мы корчились от смеха, а малыш Питер хохотал громче всех. Мы научили его показывать пальцами «мир» в окошко машины Элли. Мы научили его выставлять средний палец и вчетвером визжали от хохота, глядя на вытянутые лица маленьких старых леди, увидевших его жест. Мейми все еще хранит фото, где Питер в темных очках и со свисающей с губы сигаретой — ему едва исполнилось семь. А еще как-то раз мы сфотографировали его на мотоцикле дружка Мейми. Мы повязали Питеру бандану на голову, и он стал похож на Питера Фонду в «Беспечном ездоке». Питер любил болтаться с нами, а мы даже забывали про его нежный возраст и пол, когда оставались только Питер и мы, девчонки. Девчонки, раскинувшись на песке в бикини, болтали о мальчиках, о том, кто с кем, а Питер сидел себе да слушал. Мы жаловались на месячные, на родителей и школу, а Питер копался рядом в песке, все впитывая. Часто днем мы обсуждали планы на вечер, и Питер иногда просился с нами, чем вызывал веселый смех. Но бывало, что Колетт требовалась ночная няня, тогда мы брали его на вечеринки на пляже, в кино или к кому-то домой. Мы ощущали, что ему одиноко дома с родителями. Друзей-одногодков у него почти не было — когда мы спрашивали, он отвечал, что его сверстники незрелые. Чему удивляться? Большую часть своих ранних лет он провел в компании кучки подростков. Иногда, когда он считал, что наверняка будет участвовать в нашей затее, приходилось напоминать ему, что он все-таки не наш друг.
— Ты сможешь пойти, пока Элли платят, — говорила обычно Мейми, а Элли награждала ее недовольным взглядом. У Питера было своего рода влечение к Элли. Мы знали это, а замечания Мейми могли ранить его чувства.
— Это же правда, — ворчала Мейми. — Ему же восемь, черт побери. А мы его друзья на жалованье.
— Мейми, — строго говорила Элли, чуть приобняв Питера.
Но правда есть правда. Питер и сам понимал.
Вот очень милая история про Питера Ньюболда: однажды на день рождения он получил десятку от бабушки с дедушкой. Мама спросила его, на что он потратит деньги. Он ответил, что хочет на них провести десять часов с Элли. Миссис Ньюболд пересказала историю Элли, когда Питер не слышал, они обе посмеялись и согласились, что это мило, однако позже Элли призналась мне, что ей было неуютно. Вскоре после этого случая семья Элли переехала в Нью-Гемпшир, а остальные девчонки получили работу в Вендоверском яхт-клубе, так что мы редко видели Питера. И все же, наверное, именно те годы, когда он слушал нас, девочек, наши безумные разговоры, подготовили его к профессии психотерапевта.
Когда Питер открыл частную практику в Вендовере, он сначала работал в кабинете над своим гаражом, а потом, лет десять назад, начал снимать офис надо мной. Однажды вечером, в феврале, несколько лет назад, нас замело, и мы ждали парней Фрэнки на снегоочистителе. Мы сидели в моей приемной, открыв бутылку шампанского, присланную мне клиентом. Питер рассказывал о работе в больнице Маклина. Он уехал туда годы назад, чтобы окончить резидентуру, а потом остался штатным психиатром. В начале карьеры он очень увлекся шизофренией — собственно, это была его специализация. Питер опубликовал множество работ по этой теме — клинические отчеты, предназначенные, следовательно, для таких же специалистов. При этом у него постоянно была частная практика в Кембридже и у нас, с «ипохондриками», как он часто говорил.
Его работа с серьезными больными побудила его написать книгу о «фиксации». Называлась она «О человеческих узах». Книга предназначалась для широкой публики, наверное, в стиле науч-попа. Он подарил мне копию с автографом, но признаюсь, я не читала ее до всей ситуации с Ребеккой, а тогда уже изучила от корки до корки, отчаянно пытаясь узнать все, что только можно, о Питере Ньюболде. Обычно я читаю только романы. Однако в тот вечер, в ожидании снегоочистителя, я спросила Питера о книге — она только несколько месяцев как вышла. Он немного рассказал о связи родителя и ребенка. О том, как она важна. Это в общем-то всем известно. Питер рассказал о детских травмах. А в середине разговора вдруг спросил: «Вот например, когда ваша мать совершила самоубийство, вам было… десять? Одиннадцать?»
Он меня ошарашил. Я не удивилась, что Питер знает о моей матери. Большинство горожан знает, так что он должен был слышать. Тем не менее никто, даже спустя столько лет, так напрямую не поднимал тему ее смерти. Люди обычно говорили о «трагической» или «безвременной» кончине, но никогда, никогда — о самоубийстве. Даже отец. Даже Скотту я рассказала только после нескольких лет брака, одним вечером после выпивки, как умерла моя мать. И тут же пожалела об этом — Скотт, большой любитель историй, начал выпытывать все подробности. Он удивился, что я не обращалась в то время к консультантам или психотерапевтам.
Разумеется, когда мы со Скоттом разошлись, мы водили девочек к психотерапевтам, чтобы помочь «справиться с горем». Так посоветовал их школьный психолог. Тогда Тесс было четырнадцать, а Эмили двенадцать. И с тех пор они то и дело обращаются к психотерапевтам. Я по-прежнему оплачиваю их счета за лечение, хотя мне все сложнее это делать. Я говорила девочкам, что считаю это капризами. Сама в жизни не обращалась к психотерапевтам и как-то справляюсь. По-моему, если терапия и дала что-то девчонкам, особенно Тесс, — то лишь задумчивость и замкнутость. Тесс как раз проходила стадию, когда ей позарез требовалось выяснить все подробности о моей матери.
— Так что на самом деле с ней было не так? — приставала она ко мне, а я, если немного выпила, выкладывала, что знала.
— У нее был маниакально-депрессивный психоз. Так сказали папе врачи — «маниакально-депрессивный».
— Биполярный, — взволнованно объявляла Тесс. — Сейчас его называют «биполярный».
— Ладно. Прекрасно, — отвечала я.
— Наверное, тебе тяжело было жить с матерью, у которой непредсказуемое настроение, — говорила Тесс.
— Честно говоря, я и не замечала ничего особенного. Полагаю, не обращала внимания. Мы весь день были в школе. А летом почти все время на улице…
— Потому что твоей маме было трудно управляться?
— Нет, потому что все дети так росли в те времена. Я пыталась сменить тему, но Тесс не позволяла себя сбить.
— Мне важно знать. Мой психотерапевт хочет знать мою историю. То есть если твоя мама была душевнобольной и столько пила и со стороны родни твоего отца известны случаи помешательства, начиная с Сары Гуд…
— Пожалуйста, не заводи все сначала, — восклицала я. — Несчастную каргу повесили. Пусть покоится с миром.
Скотт и наша младшенькая, Эмили, придерживались теории насчет моей прародительницы, Сары Гуд. Эмили в старших классах даже написала сочинение о Саре Гуд, назвав его «Добрая Гуд». Вот что они выяснили со Скоттом: отец Сары Гуд покончил с собой, когда она была маленькой; когда мать снова вышла замуж, новый муж унаследовал ее имущество. Сама Сара вышла замуж в шестнадцать, овдовела и снова вышла замуж — за мужчину по фамилии Гуд. Подозреваю, что Сара была не в себе, поскольку каким-то образом довела семью до нищеты и долгов; Гуды — включая четырехлетнюю дочку, Доркас, — вскоре стали бездомными попрошайками. Сара Гуд не была милой, скромной нищенкой. Она была скандальной и воинственной. Она стучала в дома деревни Салем и, получив отказ, разражалась серией невнятных проклятий. Они с дочерью ходили немытые и в чужих обносках.
Сара Гуд стала одной из первых трех жительниц Салема, обвиненных в колдовстве, когда началась массовая истерия; муж и маленькая дочь Доркас дали показания против нее. И вот что очень, очень печальное узнала я о деле Сары: четырехлетнюю Доркас тоже обвинили в колдовстве, и она, по малолетству и невежеству, созналась. Ее приковали цепями в подземелье, как остальных, а когда через несколько дней после ареста ее допрашивали в суде, она рассказала, что мать дала ей змею и что змея укусила ее в палец и сосала кровь. Власти решили, что змея — ее «семейный дух»; это во многом решило участь Сары Гуд. Она была беременна во время ареста; после рождения ребенка (который впоследствии умер) ее повесили. Доркас Гуд позже освободили. Ее так потрясло время, проведенное в подземелье закованной, что отец получил возмещение за пострадавшее потомство. Все же кому-то она оказалась годной, какому-то мужчине, и вот я — ее потомок, как и мои дочери.