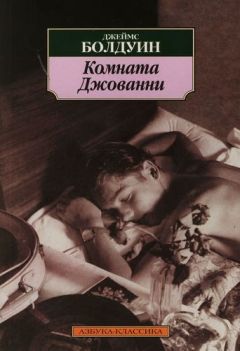Джеймс Болдуин - Комната Джованни
«Привет, старина!
– писал отец. –
Может, ты все-таки соберешься домой? Не подумай, что я пишу тебе это просто из эгоизма, я действительно соскучился по тебе. По-моему, ты загостился в Париже, и одному богу известно, чем ты там занимаешься. Пишешь ты мало, и я толком ничего не знаю. Знаю только, что в один прекрасный день ты пожалеешь, что столько времени прожил не дома, созерцая собственный пуп, а жизнь проходила мимо. В Париже тебе нечего делать. Ты американец до мозга костей, хотя, может, сейчас ты и гонишь от себя эту мысль. Не сердись, но ты уже слишком стар, чтобы учиться уму-разуму, если это то, чем ты занимаешься. Тебе скоро стукнет тридцать. Я тоже не молодею, а кроме тебя у меня никого нет. Очень хочу повидаться. Ты все время просишь прислать твои деньги, и, наверное, думаешь, что я их зажимаю. Я не собираюсь брать тебя измором, и ты знаешь, что если тебе действительно что-нибудь нужно, я первый приду на помощь. Но боюсь, что .окажу тебе плохую услугу, если дам потратить в Париже все деньги, и ты вернешься домой без гроша. Какой черт тебя там держит? Неужели нельзя с отцом поделиться? Я ведь тоже когда-то был молод, хотя тебе и трудно в это поверить».
Дальше он распространялся о мачехе, о том, как она соскучилась по мне, о некоторых наших друзьях и о том, чем они занимаются. Он не понимал, в чем дело. Его, наверняка, мучили смутные подозрения, которые день ото дня делались все мрачнее и туманнее, а если б он и посмел написать о них, то не сумел бы подобрать нужные слова. У него явно так и вертелось на языке: «Это женщина, Дэвид? Привези ее домой. Мне все равно, кто она. Привези ее домой, и я помогу вам устроиться». Но у него не хватало смелости задать этот вопрос, потому что отрицательного ответа отец бы не вынес. Это лишний раз подчеркнуло бы, какими чужими людьми мы стали. Я сложил письмо, засунул его в задний карман брюк и вышел на широкий, залитый солнцем парижский бульвар.
И тут на бульваре я увидел матроса, одетого во все белое и вышагивающего забавной моряцкой походкой «вразвалочку» с таким самоуверенным и озабоченным видом, точно он торопится и дел у него невпроворот. Я уставился на него, почти не сознавая этого, и мне страшно захотелось оказаться на его месте. Но он был моложе и намного красивее, а таких светлых волос у меня никогда не было, и со всеми своими неоспоримыми мужскими достоинствами держался он так естественно, как мне никогда не удавалось. Взглянув на него, я почему-то сразу вспомнил о доме. Вероятно, дом – это не просто жилище, а единственно возможное условие существования. Мне казалось, что я знаю об этом матросе все: как он пьет, как ведет себя с друзьями, как он справляется с жизненными неурядицами и женщинами. Неужели и мой отец был когда-то таким, как этот матрос, а, может, и я чем-то походил на него? Верилось с трудом, потому что этот юноша вышагивал по бульвару, как само солнце, а у солнца не бывает соперников и двойников. Когда мы поравнялись, он кинул на меня такой бесстыдный, всепонимающий взгляд, точно рассмотрел в моих глазах изобличавшее меня смятение. Возможно, несколько часов назад он окатил таким же презрением крикливо разодетого un folle[89] или проститутку, пытавшуюся убедить его, что она порядочная женщина. Погляди мы еще минуту друг на друга, и у него, позабывшего весь свой блеск и лоск, наверное, вырвалось бы: «Эй, крошка, пошли со мной» или какая-нибудь подобная вульгарность. Я поспешно прошел мимо, тупо глядя в сторону, чувствуя, как все лицо горит и бешено колотится сердце. Он застал меня врасплох, потому что думал-то я не о нем, а об отцовском письме, о Хелле и о Джованни. Я перешел на другую сторону, боясь оглянуться и раздумывая над тем, что он такое разглядел во мне, что вызвало в нем такое презрение? Я был достаточно взрослым и понимал, что дело вовсе не в моей походке, не в манере размахивать руками и не в моем голосе, которого, кстати, он никогда не слышал. Дело было в другом; и это «другое» я никогда не увижу. Просто не посмею. Это все равно, что смотреть на яркое солнце без темных очков. Но даже сейчас, когда я побежал по бульвару, боясь взглянуть на проходивших мимо мужчин и женщин, я понимал, что в моем взгляде матрос прочитал не только зависть, но и животное желание: ведь я сам часто замечал это в глазах Жака и смотрел на него с таким же презрением, с каким матрос посмотрел на меня. Но даже если бы матрос мне понравился и прочитал это в моих глазах, это было бы еще хуже, потому что нежность к молодым людям, на которую я был обречен, вызывает в людях еще больший ужас, чем похоть.
Я шел и шел, боясь оглянуться, потому что матрос мог наблюдать за мной. У набережной, на rue des Pyramides,[90] я нырнул в кафе, сел за столик и распечатал письмо Хеллы.
«Mon cher!
– писала она. –
Испания – моя любимая страна, но это не мешает Парижу оставаться моим самым любимым городом. Так хочется снова очутиться среди этих шальных французов, которые вечно мчатся куда-то в метро, выпрыгивают из автобусов и выскакивают из-под колес машин и мотоциклов, устраивают пробки и глазеют на идиотские скульптуры в своих идиотских парках. Господи, до чертиков хочется посмотреть на подозрительных дамочек с place de la Concorde.[91] В Испании нет ничего похожего. Называй ее как угодно, только легкомысленной ее никак не назовешь. Честно говоря, наверное, я навсегда осталась бы в Испании, если бы до этого не пожила в Париже. Испания – очень красивая, солнечная, каменистая и почти безлюдная страна. Но постепенно тебя начинает тошнить от оливкового масла, от рыбы, кастаньет и тамбуринов. Мне, во всяком случае, осточертело. Хочу домой, домой, в Париж. Забавно! Раньше я и не знала, что у меня есть дом.
В общем, все по-старому. Надеюсь, тебя это радует? Меня, по правде говоря, это радует сильно. Испанцы – славный народ, только большинство живут ужасно бедно, но богачи – невыносимы. Полно туристов, от которых воротит, в основном англичане и американцы. Пропойцы все до одного, их семьи платят кучу денег, только чтоб они не мозолили им глаза. (Я тоже хочу иметь семью!!) Сейчас я в Мальорке.[92] Восхитительное местечко, если б спихнуть в море всех вдовушек на пенсии и запретить им пить сухой мартини. В жизни ничего подобного не видела! Ты бы посмотрел, как эти старые грымзы его лакают и заигрывают с каждым мужчиной, в особенности с восемнадцатилетними юнцами. Словом, я сказала себе: „Хелла, детка, хорошенько присмотрись, ведь тебе же надо подумать о будущем“. Но вся беда в том, что себя-то я люблю больше всех. Поэтому я милостиво позволила двум молодым людям попытать свое счастье – я имею в виду „закрутить любовь“ – и посмотреть, что из этого получится. (Теперь, когда я заварила кашу, чувствую себя отлично, надеюсь, ты тоже, милый рыцарь, в доспехах из „Гимбла“.)[93]