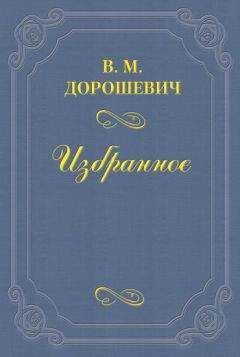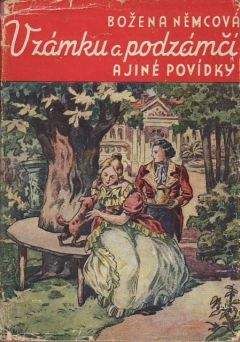Роберт Флэнаган - Черви
Правая нога у него затекла, и он немного повернулся, перенося вес тела на левую. В этот момент он заметил, что проносившиеся по шоссе огоньки в какой-то момент вдруг исчезали, чтобы через несколько секунд вновь появиться уже чуть правее. Он догадался сразу же, в чем причина, — где-то там в темноте между ним и шоссе находился монумент героям Иводзимы. Он ненавидел эту железобетонную громадину, ненавидел с первых дней своего пребывания на острове. Эти неестественные семиметровые фигуры с раннего утра и до позднего вечера молча взирали свысока на сотни маршировавших у их ног измученных солдат, как бы вбивая им в голову: «Старайтесь! Старайтесь вовсю, парни. И, может быть, тогда вы станете настоящими морскими пехотинцами. Такими, как мы!»
Самым отвратительным было то, что все это было обманом. Чистым обманом от начала и до конца. Сам подвиг на горе Сурибати и все, что потом из него сделали. Как-то еще давно Адамчик читал в журнале «Ридерс дайджест», что знаменитая фотография «Подъем флага США на горе Сурибати» была сделана вовсе не в боевой обстановке. Группу, поднимающую флаг, фотографы снимали гораздо позже, когда бои на острове давно уже закончились. Тогда он не поверил тому, что прочел. Но сейчас был уверен, что это правда. Ведь у него за последнее время была уже не одна возможность убедиться, что весь этот корпус морской пехоты и все, что с ним связано, представляли собой не что иное, как бесконечное нагромождение пустого бахвальства и фальши.
Почему, например, было не сделать эту группу в натуральную величину? А еще лучше сломать ее напрочь и вместо нее поставить изваяние непревзойденного штаб-сержанта Магвайра, избивающего желторотого новобранца.
То же самое и с вербовочными афишами и всякими плакатами морской пехоты, рассчитанными на молодежь. Содрать бы всех этих голубоглазых и белокурых бравых морских пехотинцев, гордо вглядывающихся в будущее, а вместо них повесить простой плакат, на котором изобразить Магвайра, натягивающего презерватив на бутылочку с молоком и собирающегося поиздеваться над рядовым Купером.
Адамчику было совершенно ясно, что все афиши, фотографии, монументы, фильмы и телепрограммы о подвигах морской пехоты представляют собой звенья огромного заговора, целью которого является обман людей, в том числе и его лично. Он ведь в свое время заглотал эту лживую наживку, клюнул на нее, как глупый окунь на червяка, и вот теперь она сидит у него внутри, вся — крючок, грузило и леска. Никто ведь не заставлял его подписывать контракт, сам полез. Захотелось, видите ли, ему тоже, как и другим, пощеголять в темно-синем парадном мундире, стать настоящим парнем, именоваться бравым морским пехотинцем. Вместо этого его обрядили в это мерзкое грязно-зеленое рабочее обмундирование и окрестили Двойным дерьмом. И это еще не самое худшее. Самое худшее то, что его заставляют поверить, будто бы он к тому же еще и ублюдок, последний трус и подонок, в общем грязная тварь.
Все то, против чего он боролся в течение всего этого тяжелого дня, снова поползло ему в голову. Сумбурные, бессвязные мысли, одна невыносимее другой. Перед глазами вновь возник кабинет батальонного капеллана, того самого, у которого он был утром и который нанес последний удар по его думам и иллюзиям.
Первое, что увидел он, войдя в этот кабинет, была все та же опостылевшая фотография пятерых бравых морских пехотинцев, водружающих флаг на вершине горы Сурибати. Она висела на самом видном месте, и луч солнца играл на ее стандартной металлической рамке. Адамчику показалось, что именно она нанесла ему тогда самый сильный удар, похоронила окончательно все его иллюзии и надежды. Она уверила его в том, что только круглый дурак и непроходимый тупица может надеяться найти в этом кабинете взаимопонимание и сочувствие. Он просто попусту тратил время.
— Сэр, — тем не менее доложил он, как положено, — рядовой Адамчик просит разрешения…
— Ну, зачем же такие формальности, сын мой, — остановил его капеллан, приветливо улыбнувшись. — Садитесь, пожалуйста, рядовой… э-э…
— Адамчик, сэр!
Он сел перед окрашенным в темно-зеленый цвет металлическим столом, на блестящей крышке которого слева стояла обрезанная наполовину гильза 105-миллиметрового снаряда, служившая коробкой для писем. За спиной у капеллана на стене висело деревянное распятие с позолоченной фигуркой Христа посредине.
Капеллан удобно расположился в широком вращающемся кресле. Он слегка повернулся к своему посетителю, поставил локти на стол, всем своим видом показывая, что готов внимательно слушать. Ростом он был невелик и телосложением хлипок, и Адамчика очень удивило, что в этой тщедушной груди рождался неожиданно громкий, низкий голос.
— Так что же привело тебя, рядовой, в сию комнату? Давай, выкладывай, — пригласил его священник. — Рассказывай все по порядку и помни, что здесь принято ничего не утаивать. Давай!
— Сэр… То есть я хотел сказать, святой отец… — начал Адамчик. — Я… видите ли… он замялся, не в силах найти нужные слова — не знаю, вправе ли я к вам обращаться с этим…
— Почему же это не вправе? У меня здесь все вправе говорить о своих трудностях и сомнениях. Не бойся и выкладывай…
— Я хотел сказать, святой отец… — он снова остановился. — …Вернее, мне кажется, что я окончательно запутался…
Адамчику хотелось как можно точнее изложить капеллану все, что он думал о Магвайре и его методах, о всей системе подготовки, жертвами которой оказались он и его товарищи. О том, чем она, эта система, была, по его мнению, плоха и бесчеловечна. Но это все оказалось лишь благими намерениями. Фактически же рассказ оказался путаным, совершенно бестолковым и неубедительным. Он перескакивал с пятого на десятое и, в конце концов, так ничего толком не объяснив, оказался прав лишь в одном — доказал капеллану, что действительно полностью запутался.
Уже позже, возвращаясь к себе в казарму на джипе, за рулем которого сидел молчаливый капрал, непрерывно жевавший резинку, Адамчик вновь и вновь вспоминал все, что было, и пришел к выводу, что его замысел и надежды оказались на поверку совершеннейшей выдумкой, мыльным пузырем. И главной причиной этого, считал он, было то, что батальонный священник застал его врасплох, нарушил заранее намеченный план, запутал его. А может быть, наоборот? Может быть, беда была как раз в том, что ему самому не удалось застать врасплох капеллана? Когда еще до этой беседы он пытался представить себе, как она будет протекать, он был совершенно уверен в одном — его сообщение явится полной неожиданностью для капеллана, ошеломит его, потрясет. Может быть, даже вызовет бурю возмущения. Действительность полностью опровергла эти предположения. В течение всей беседы священник ни на йоту не отошел от того отечески-добро-желательного, но в то же время безразличного, как бы беспристрастного тона, которым он встретил солдата. Этот тон обезоруживал человека. Во всяком случае Адамчика он сразу же выбил из колеи.