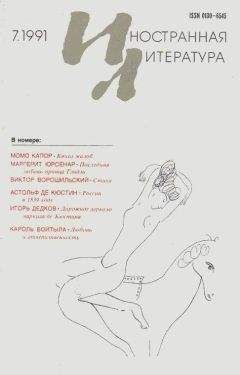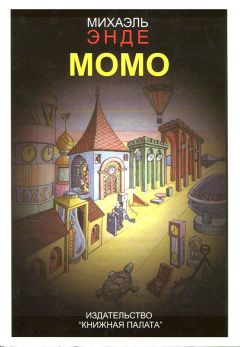Фигль-Мигль - В Бога веруем
Человек тащит сквозь жизнь всего себя — что с ним было, что он сделал, что ему сделали, — тараном вонзается, все тяжелее, и тверже, и неповоротливее. Или катится снежным комом? Тоже возможно. Огромный, пухлый; чем дальше, тем увереннее сминает он пространство перед собой. Он видел в раннем детстве трамваи с деревянными лавками вдоль стен — он потащит этот трамвай, сам станет трамваем. В начальной школе мы еще сидели за партами старого образца: наклонными, с откидывающимися крышками и лавкой на двоих. Ой, верно! А еще нам запрещали писать шариковой ручкой: считалось, что это портит почерк — или не дает выработаться правильному почерку, не помним точно. А на почте лежали для всеобщего пользования совсем древние деревянные ручки со вставным пером, которое нужно окунать в чернильницу, — и довольно-таки заляпано было все вокруг, и пахло сургучом — гораздо сильнее пахло, чем теперь. Вам этого жаль? Жаль не жаль — что поделаешь. Вы знаете, что смена цивилизаций сопровождается сменой писчего материала? Меровинги писали свои грамоты на папирусе, пока в седьмом (опять!) веке не был запрещен вывоз папируса за пределы Арабского халифата. (Египет уже был под арабами.) Франки перешли на пергамент — и через некоторое время отправились отвоевывать гроб Господень… Когда их заносило в Византию (где гроб Господень, а где Константинополь, соображать же надо), путешественники видели много интересного. В Византии не было рыцарей. Зато там было полно смешных грамотеев. Византийцы таскались по улицам с чернильницей и пером. Писали, кстати, на бомбикине, Это чего. Это такая бумага, которую даже греческий огонь не берет. Рыцари потешались, местные копили яд. (“Другой успеет прочесть целую книгу, прежде чем крестоносец разберет буквы своего имени”.) Зачистят не одно поколение грамотеев, прежде чем новое поколение рыцарей научится грамоте, а Ариосто их воспоет. (А нужно ли? Не знал бы Роланд грамоте, не разнес бы в щепки безвинную рощицу. Зачем он так? Увидал заветный вензель.)
Кстати, наш Мани — едва ли не единственный из основателей мировых религий, который сам записал (именно записал) книги с изложением своего учения. А что насчет почты — у нас что, тоже цивилизация меняется? Ну да. Да, но ведь только чернила поменяли?
о седине
Итак, она стоит у окна. Кто-то писал, что человек, склоняющийся над парапетом набережной или перилами моста — это классическая поза самоубийцы. А какой вам видится поза человека у окна: руки на подоконник или раму, лбом в стекло? Это поза человека, который мается дурью — или грустит — или мечтает — предается тоске и отчаянию — кого-то высматривает. Кого она там высматривает? Вы такие вопросы задаете! Во всяком случае, не Негодяева. Негодяев здесь же, в комнате, сидит за столиком и делает себе маникюр.
Вы сейчас, наверное, не верите своим глазам, но все так: Негодяев сильно сдал. Сдал, заметьте, а не опустился. По-прежнему вычищенный, гладкий, гадкий, он улыбается мягче и проще. И раньше в нем не было ненависти или уважения к людям, но и жалости к ним — ни капли; теперь что-то похожее на сочувствие, на усталость видно в глазах и улыбке. Что-то похожее на седину блестит в ярких ухоженных волосах. (Аристотель утверждает, что первыми седеют у человека виски, а последними — волосы на лобке.)
— Лиза! — зовет он. Лиза оборачивается.
А что, скажите, красивая выросла девочка? Она похожа на свою мать, которую ненавидит.
Лиза оборачивается и молча, как в окно, смотрит на Негодяева.
— Давай ужинать? — говорит он.
От этих простых дружелюбных слов мгновенно — как будто рука привычным движением нашла выключатель — в глазах Лизы вспыхивает негодование. Гнев вырывается из зрачка, дрожит на ресницах, летит потоком (чего? фотонов?); за ним следует быстрое сердитое “нет”.
— Поешь, — настаивает Негодяев. (Вот его глаза спокойны, как драгоценности в полумраке.) Там тебя не покормят.
— Ну и что?
— Да ничего. В животе будет бурчать.
О да, щепетильный друг, мы все согласны: в животе бурчать не должно. Человек имеет право упасть духом (ведь падает же барометр, разрушается и падает Рим, падают осадки и предметы с неба, само небо может свалиться в Дунай), в пропасть и даже в лужу — но только не упасть в глазах эстетики. Лошади, снобы и эстетика все помнят и ничего не прощают.
— Ерунда.
Негодяев чешет мизинцем бровь. Негодяев убирает за ухо прядь волос. Негодяев смотрит с улыбкой.
— От них воняет, — пробует он подойти с другого бока.
— Просто скажи, что не хочешь, чтобы я туда ходила.
— Зачем бы мне это говорить?
— Чтобы показать, что тебе интересно. — Люди всегда пристают с поучениями к тем, кто им небезразличен.
Как-то странно она у вас изъясняется. Или через семь лет все будут так? Ой, ну чего придираетесь? Она говорит в точности как те, с кем все эти годы разговаривала.
— Я думал, ты не любишь, когда на тебя давят.
— Как и все. Смотря кто давит.
— Ну, как хочешь.
В ответ на ее вопросительный сердитый взгляд он пожимает плечами, словно говорит: “Не буду рисковать”. Лиза закусывает губу, закидывает голову и выходит из комнаты. Негодяев идет следом и помогает ей надеть пальто. Нужно только то, что нужно тебе, — говорит он на прощание.
Оказавшись на улице, Лиза поднимает глаза и видит в окошке — там, где она только что стояла, — свет, пустой и ровный. У окна никого нет; не все соблюдают грустный обычай подойти к окну и помахать рукой уходящему. Она поднимает взгляд еще выше.
По нашим наблюдениям, в небе над родным городом есть только одна видная голому глазу звезда: бледная, зеленая (жирные сочные звезды юга, как вы немыслимо далеки!), может быть, это Венера. Или Полярная звезда? (Вы увлекались астрономией?) Этот зеленый огонь, такой ледяной, обжигающий холодом, пришел когда-то с крайнего запада, где находился Авалон — там, там, за синим океаном вдали, в мерцании багряном — остров яблок, остров блаженных, остров мертвых. (Его еще древние идентифицировали с Канарскими островами, поэтому для Бена Джонсона канарское вино хмельнее прочих, помните?.. Это вино на диво забористое, вторит Шекспир.) Теперь эта беспощадная смелая звезда горит над — смотрите внимательно! — смертью и разрушением четвертого Рима. Так ведь четвертого и не было? Тем лучше. Или вы думали, то, чего не было, не может разрушиться?
Нет, признавайтесь, куда все делось? Где витрины? Где машины? Почему не гуляют по центральным авеню (ведь еще не поздно?) улыбчивые растрепанные франты и женщины на каблуках? Отчего это не горят фонари? А эта бегущая тень (вот она споткнулась в проеме подворотни) как будто больше похожа на тень крысы, чем человека? А где вы видели тени крыс, что так бойко сравниваете?
о граде Китеже
Может, город ушел, провалился, опустился под воду — в глухую, слепую воду небытия, — а утром выплывет из чернильного облака ночи, как — как — Атлантида? нет, этот, этот — как его — град Китеж! То, что мы видим сейчас — вернее, то, чего не видим, — это слепок, чертеж, швы на изнанке схалтуренной одежды, место на карте. Завтра утром это будет место под солнцем? Да, и проснется электричество, поползет из-под земли транспорт, закричат голоса, и бодрые ноги, преодолев свои и чужие лестницы, пробегут ожившими тротуарами — по их свежей плитке, новеньким трещинам, по чистой —
Упс! стойте, осторожнее!
Аккуратно, легко, не колеблясь (не дрогнул ни на секунду ритм движения) Лиза перешагивает лежащего на плитках тротуара человека. (Быстро нагнувшись, присев на корточки, обмениваясь дрожащими взглядами — обмениваясь страхом, оторопью и любопытством, — мы смотрим в желтое незнакомое лицо, постепенно понимая, что это, собственно, не человек, а мертвое тело, когда-то какому-то человеку принадлежавшее.) Перешагивает и идет дальше (бежим, нужно догнать), идет, не глядя, по трупам ограбленных слов. По обломкам метафор, через руины иносказаний, сквозь туман аллегорий (если это туман, а не зловонные испарения от их гниющих тел), сквозь темную ночь идет она, заворачиваясь в шубку. А вы сказали — пальто. Мы сказали “пальто”? Знаете, эти грядущие моды немного огорошивают. Может быть, появиться на улице в настоящей шубе (после того как защитники животных с лица земли сотрут зверофермы со всем их содержимым) будет актом гражданского мужества. Или слабые духом привыкнут покупать пальто, неотличимые на вид от шуб, но все же шубами не являющиеся, что будет удостоверено фирменными ярлыками и лейблами. Возможно, мы просто оговорились? Просто ляпнули, а теперь не хотите признаться! Метафоры, иносказания! Тот труп, — мы его только что разглядывали — не был мертвым телом аллегории! Да, справедливый друг, это так. Тогда чей же он?
Да откуда нам знать, чей он? Может быть, через семь лет улицы родного города будут усеяны трупами, как парижские улицы времен “Трех мушкетеров” — батистовыми платочками. Вы серьезно? Да. Вон, смотрите, еще одна тушка: ребеночек со свернутой шеей. Здесь вот комбатанты переусердствовали. (Тише, не вляпайтесь.) Нет-нет, нам направо. Видите, Лиза уже отпирает своим ключом крепкую дверь подъезда. А у девочки-то железные нервы. Ах, чему удивляться! Те, для кого все впечатления жизни были непрерывным шоком, не знают ни страха, ни жалости.