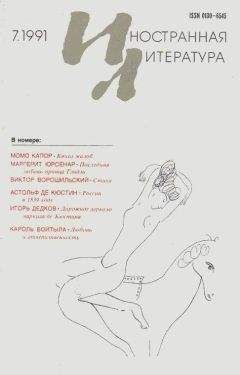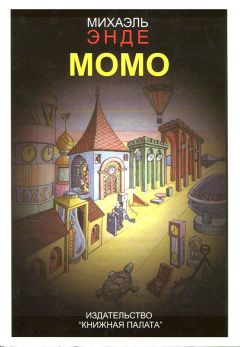Фигль-Мигль - В Бога веруем
Ну ничего не утаишь.
о длинных волосах
Еще первобытные народы прекрасно знали, что стрижка волос чревата опасностью потревожить дух головы, который может получить повреждения и отомстить. (А потом еще нужно будет похоронить или спрятать отрезанные пряди, чтобы не попали в руки врагов и колдунов.) Самый простой способ уберечься — не стричься вообще. (Фрэзер пишет, что вождь племени намоси на острове Фиджи, оказавшись перед необходимостью подстричь волосы, в виде предосторожности всегда съедал человека — что накладно, если племя маленькое.)
Когда Навуходоносор был отлучен от людей и одичал, волосы у него выросли, как у льва, а назареи (класс посвященных, к которому принадлежали и Самсон, и Христос) по доброй воле давали обет не стричь волос. Порою для нестриженых все заканчивалось печальнее, чем для стриженых, что видно на примере Авессалома, самого красивого и хвалимого мужчины в Израиле. Волосы с его головы весили двести сиклей (по нашим сложным подсчетам, примерно 3,63 кг, но на всякий случай подсчитайте сами: мы, руководствуясь богословским словарем, взяли сикль как серебряную монету весом в четыре римских динария по 4,54 г каждый), и этими волосами он запутался в ветвях большого дуба — “и повис между небом и землею, а мул, бывший под ним, убежал” — и, разумеется, тотчас пришли враги, посмотрели, да и убили.
Римляне называли комету волосатой звездой, а Трансальпийскую Галлию во времена Цезаря — Косматой Галлией. Попавший к сарматам и гетам Овидий с отвращением пишет, что аборигены не стригут ни бороды, ни волос, а зимою в их космах часто висят ледышки и звенят при движенье. А у парфянских царей волосы были длинные, но хорошо ухоженные.
Про Меровингов вы помните; стоило кого-то из них остричь, он автоматически лишался престола. В средневековой Европе верили, что зловредная сила колдунов таится в их волосах, и с ними ничего нельзя поделать, пока волосы целы. Потом был XVI век, XVIII — головы стали мыть значительно чаще, дважды в месяц, с длинными волосами соперничали парики. И, наконец, последние двести лет, когда длиною волос мужчины, фрондируя, выражали свой либерализм. У молодого Каткова — тогда шеллингианца — был хаер, как у Ленского. Длинные волосы (подумаешь, всего-то до плеч) страшно мешали ему работать, и он, занимаясь бумагами (Фенимора Купера переводил для Краевского на пару с Иваном Панаевым), беспрерывно откидывал их назад рукою.
Учтите, мы не спрашиваем вас, кто такой Катков. Не спрашиваете? Да ведь это —
Не спрашиваем! Нужно будет — сами посмотрим в энциклопедии.
Хорошо; скажем только, что Каткову его хаер приходилось помадить. Вот еще вопрос: помадить или не помадить? Завивать или не завивать? (Зри автопортрет молодого Дюрера: длинные завитые локоны из-под шапочки.) Может быть, лучше завязать узлом на макушке? (Зри японские картинки.) Или заплести в косу (зри китайские картинки), в две косы (зри фильмы с участием индейцев), в то, что на голове у Децла (зри MTV)? А хиппи, интересно, хаер помадили? Нет, они его просто не мыли. Получался эффект, как сейчас от модной пенки.
Ну и еще волосы не стригли и не стригут ситуативно, по обету: обет мести, или траура, или пока не сдашь все экзамены.
о коловратности
Вы не поверите, как мало изменилось за семь лет. Нет, разумеется, вы — и мы — и девочка Лиза — за эти годы прожили целую жизнь, обогатив свои коллекции воспоминаний новыми надеждами, новыми предательствами, новыми смертями. Но это частная жизнь, жизнь каждого, не востребованного телевизором — ведь как ни верти, компатриот сам по себе не является информационным поводом. А жизнь страны? Каким ничтожным кажется то, что было семь лет назад. А вот если семьдесят — то величественным. А семьсот — волшебным. Время, как вода, уходит сквозь песок и возвращается с неба. Время — круглое, как коловратность; такое наше геометрическое открытие. Круглое, как зло. Круг за кругом, и только где-то в подземных озерах времени скапливаются, набираясь по капле (вот мы представляем, как капли отрываются от большого плотного шара) боль и отчаяние — когда-нибудь потом их станет слишком много, они хлынут и затопят, что и зафиксировано в различных пророчествах. Нельзя ли попроще? Вы нас убить хотите, куда еще проще? Одно и то же зло циркулирует по принципу “круговорот зла в природе”, так? При этом некоторая его часть каждый раз идет на увеличение неприкосновенного запаса, ясно? В один дивный день заначку станет негде хранить, и она пойдет в дело, что тут непонятного. Так бывает? Бывает, бывает. Бывает, что и презервативы рвутся.
Время круглое, а пространство — кривое. Впрочем, пространство тоже круглое — как небо вокруг Земли. Все на свете круглое — это наше открытие № 2, — даже если притворяется прямым, кривым, горбатым, хаотично движущимся, исторически обоснованным.
Что бы там ни было, новым оно не будет. И вместе с тем оно будет другим. И мы скажем вам сразу: все сны Аристида Ивановича сбылись — и есть такая догадка, что они вообще не были снами. В результате чего Аристид Иванович оставшиеся ему дни биографии проводит в закрытом учреждении, чередуя санаторный режим больницы им. Кащенко с курсами терапии института Бехтерева.
Однако произошла — такие вещи происходят чудовищно быстро — смена поколений. Родителям к сорока — родителей на помойку, — выросшие дети слушают музыку своего будущего. Они еще ничего не определяют — если “чем-то” считать заводы и пароходы, зато им принадлежат жизнь и свобода. Это ведь хорошо, что власть во взрослых пожилых руках: есть кого ненавидеть и осмеивать, на кого смотреть, скривив лицо: не буду таким никогда.
“Не торгуй своей бессмертной душой, иначе станешь, как мы”, — вот единственный драгоценный урок, который граждане преподносят одним своим видом юношеству. Как и другие полезные уроки, большинством он забывается, и к двадцати пяти годам большинство мирно подыхает от наследственной сухотки души. Вашей девочке Лизе еще далеко до двадцати пяти. Вот именно! Как раз о девочке Лизе и надлежит сейчас рассказать.
Воспитанием ее занимались Аристид Иванович и Негодяев, заботливо взлелеяв, в итоге все странности, сурово подавив все помогающие жить стереотипы и ненароком отбив всякий интерес к сверстникам. Она скиталась из школы в школу, потому что Аристид Иванович, в минуты просветления ознакомившись с положением дел в каждой следующей школе, приходил туда и говорил что-то вроде этого: “Ваше дело — учить. Вследствие того, что учить, в силу своего жесточайшего невежества, вы не в состоянии, вы беретесь воспитывать. Но воспитывать — не ваше дело, этим должны заниматься родители, чего они, впрочем, по ряду причин тоже не делают, но вас это никоим образом не касается, ваше дело — учить”, и т. д.
Она скиталась от книги к книге, от надежды к надежде, от одной угрюмой мечты к другой угрюмой мечте, по просторам новых роскошных апартаментов, в закоулках сна и бреда, по путям мощной, как океан, ненависти — неверными пенными дорогами, проложенными в толще ее воды. В шестнадцать лет она собрала вещички и из Бетси снова стала Лизой. И пожелала маме всего, что накопилось. И сказала папе все, что о нем думает. (Трусливо, зловредно, бесчестно слабовольный.) Собрала вещички и ушла к Негодяеву. (Зачем тебе этот мудак? — холодно удивилась мама.) Ах, вот как! Да. Сейчас они уже год как прожили вместе.
Тихие сумерки, и тихий молодой голос рассказывает что-нибудь ужасное. Говорили мы вам! Нет, он ее не развращал — в специальном смысле. Так получилось; он любил все редкое, диковинки. И не то что обратил внимание и выжидал положенный приличиями срок, но, как бывает, срок вышел, и он обратил внимание. Что там Земфира поет — “девочка созрела”? Боже правый, она все еще поет? А вы как думали! Мужайтесь.
Лиза стоит у окна (это какая-то новая квартира, не прежняя студия Негодяева), угрюмо смотрит и крутит прядь волос. Можно было, кажется, отучиться. Но детские привычки сидят глубоко.
о детских привычках
А скажите, у вас остались какие-нибудь детские привычки? Мы вот знаем одну толстую даму, мать семейства и все такое, которая, гуляя вдоль путей, каждый раз останавливается и считает вагоны проходящего поезда, причем для нее очень важно, каким по счету окажется вагон-ресторан. Кто-то прикусывает от усердия язык, когда пишет: так и сидит за компьютером, словно на уроке. Кто-то старается не наступать (или, наоборот, наступить) на трещины в асфальте. Можно таскать в карманах разный хлам или бренчать в кармане мелочью. Спать, свернувшись клубком. Поворачиваться к стене. Отворачиваться от стены. Петь, сидя на горшке. А какая пропасть народа грызет ногти и сует в рот волосы (если это технически возможно).
о писчем материале
Человек тащит сквозь жизнь всего себя — что с ним было, что он сделал, что ему сделали, — тараном вонзается, все тяжелее, и тверже, и неповоротливее. Или катится снежным комом? Тоже возможно. Огромный, пухлый; чем дальше, тем увереннее сминает он пространство перед собой. Он видел в раннем детстве трамваи с деревянными лавками вдоль стен — он потащит этот трамвай, сам станет трамваем. В начальной школе мы еще сидели за партами старого образца: наклонными, с откидывающимися крышками и лавкой на двоих. Ой, верно! А еще нам запрещали писать шариковой ручкой: считалось, что это портит почерк — или не дает выработаться правильному почерку, не помним точно. А на почте лежали для всеобщего пользования совсем древние деревянные ручки со вставным пером, которое нужно окунать в чернильницу, — и довольно-таки заляпано было все вокруг, и пахло сургучом — гораздо сильнее пахло, чем теперь. Вам этого жаль? Жаль не жаль — что поделаешь. Вы знаете, что смена цивилизаций сопровождается сменой писчего материала? Меровинги писали свои грамоты на папирусе, пока в седьмом (опять!) веке не был запрещен вывоз папируса за пределы Арабского халифата. (Египет уже был под арабами.) Франки перешли на пергамент — и через некоторое время отправились отвоевывать гроб Господень… Когда их заносило в Византию (где гроб Господень, а где Константинополь, соображать же надо), путешественники видели много интересного. В Византии не было рыцарей. Зато там было полно смешных грамотеев. Византийцы таскались по улицам с чернильницей и пером. Писали, кстати, на бомбикине, Это чего. Это такая бумага, которую даже греческий огонь не берет. Рыцари потешались, местные копили яд. (“Другой успеет прочесть целую книгу, прежде чем крестоносец разберет буквы своего имени”.) Зачистят не одно поколение грамотеев, прежде чем новое поколение рыцарей научится грамоте, а Ариосто их воспоет. (А нужно ли? Не знал бы Роланд грамоте, не разнес бы в щепки безвинную рощицу. Зачем он так? Увидал заветный вензель.)