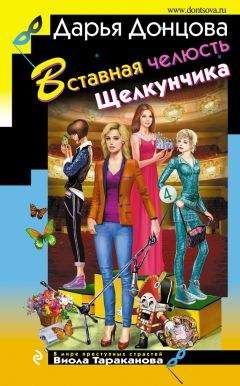Войцех Кучок - Царица печали
— Чертов пульт! Сколько раз я говорила отдать его в починку!
— Столько раз уж говорила, что сама могла отнести!
— Чертов дом! Никто тут никогда ничего вовремя не исправит!
— Ну ты посмотри: льет и льет этот чертов дождь!
— А чтоб гром-молния долбанули и спалили все это навсегда!
Но в тот день вместо грома-молнии у них было дерьмо: они вдруг почуяли вонь во всем доме, даже на чердаке, вдруг почуяли, и обеспокоились, и стали перекликаться, спрашивая друг друга, что это так воняет, вроде как вдруг встревожились, что, может, это совесть их начала гнить. Вышли в коридор и с облегчением обнаружили, что это снизу, с первого этажа, от соседей, а значит, это не их совести запах, а соседей с первого этажа (после смерти матери потомок семейства Сподняков уволился из приходившей в упадок шахты, привел свою сожительницу и вместе с ней продолжил отцовскую школу тихого алкоголизма). Они успокоились и даже обрадовались, подумали, что как только у соседей совесть сгниет, то те уж наверняка будут вынуждены съехать, тогда уж наверняка съедут, но тут же стали возмущаться:
— Ну ладно, пусть у них там гниет что угодно, но почему у нас наверху воняет? С этим надо что-то делать.
Когда же они вылезли всем кагалом — мать, старый К., его сестра, его брат и гладкошерстная такса, взбудораженная беготней и одурманенная вонью, — то принялись друг друга подначивать:
— Ну пойди, скажи им что-нибудь.
— Почему я?
— Ты мужик, так сделай же хоть что-нибудь!
Так они подзуживали друг друга и собирались с духом и уже даже на лестничную площадку вышли, чтобы перспективой соседской двери придать себе смелости и, соответственно, тут же постучать в нее, и уж постучали бы, если бы не сосед, который сам вдруг открыл дверь, высунул голову и стал принюхиваться, а потом, скривившись от отвращения, звать сожительницу:
— Илюу-у-уняа-а! Подь суды, шо тут так воняить?! Чуешь?
Сожительница Илона на этот призыв вышла и, поводив ноздрями, признала:
— Ну, что-то воняить, ну да.
Тогда их общий сожительницкий взгляд узрел, что на площадке стоит семейка и недружелюбно присматривается, и посмотрели они друг другу в глаза по-соседски и вдруг поняли, что надо заключить перемирие, потому что это вонь чужая, не местная из дома, потому что этот неопределенного местоположения источник вони бил все интенсивней; все спустились еще ниже, к подвалам, друг за дружкой, по ступеням, неуверенно, женщины сзади, мужчины спереди, сосед первый, потому что жил на первом этаже и от подвала был ближе остальных, и собака, на взводе, рвущаяся и сдерживаемая («Заберите отсюда эту собаку!»). Спустились и открыли дверь, и вода с говном хлынула на соседа, потому что он стоял ниже; смрад ударил в них с удвоенной силой. Женщины застонали, теряя сознание:
— О боже, канализацию прорвало…
Мужчины мрачно чертыхнулись:
— У, бля, прорвало канализацию…
Сосед, сбитый с ног говняной волной, сидел по пояс в говняной воде и отчаянно призывал:
— Илюу-уняа-а, вытащ мене отседова!!
А потом, когда уже все отступили на площадку между этажами, на безопасное расстояние от подступающей воды с говном, все по очереди начали делиться впечатлениями:
— Я же говорила, что это развалина, эти трубы, давно уж надо было…
— Я знала, что так будет, интересно, из-за кого это…
— Если говорила, то сама могла уже давно…
— А там льет, и льет, и льет…
— Илюня, я должон одёжу скинуть!
— А ну мене так в дом не влазь, в колидоре скинь!
Но вода и дерьмо только начинали прибывать, и в то время, когда все решали, что делать, Боже милостивый, что делать, уровень говняной воды в подвале рос десятками сантиметров в час, в любом случае было видно на глаз.
Прежде чем они решили начать выносить то, что удастся вынести, спасать плавающее добро, сложенное в подземелье, от картошки и угля до полотен в мастерской старого К., прежде чем начали искать ведра и образовывать соседский конвейер самопомощи, черпая воду с говном вплоть до исчерпания, всю ночь напролет; прежде чем, стало быть, они начали действовать, они должны были проверить самое главное: не обидела ли их судьба в сравнении с остальным миром, а если и так, то в какой степени. Брат старого К. предложил:
— Надо проверить, не залило ли еще кого, — ради того чтобы обрадоваться, что приключилась всеобщая беда, что это всехняя мерзость, что в соседних домах аналогичная борьба либо вот-вот начнется, либо уже началась. Но ни с кем больше ничего такого не случилось; взорам вышедших на улицу обеих проживавших в доме семей явилось чудо.
Ливень с трескучим громом и раздирающими небо молниями лупил только по их дому, только над их домом ангелочки злорадно опрокидывали бочки, только над этим домом, самым старым в округе, дедами-прадедами возведенным, наследственным, вода изливала злость так бурно. Они сделали несколько шагов в сторону люмпен-блока (как называл его старый К.) и, пройдя сквозь стену дождя, встали, мокрые, под сухим и благодатным небом, и, глядя то на свой дом, то на остальной мир, не верили глазам своим, качали головами, рвали на себе волосы. Сестра старого К. пала на колени со словами о каре Божьей на устах и молитвой, суетливым шепотком проговариваемой, с предчувствием, что если это и не последний конец концов света, то по крайней мере его предвестие, и молилась, молилась, самообожающе исповедовалась, наращивая обороты, провертывая ленту с записью грехов, лишь бы успеть до первого грома. Брат старого К. все ходил туда-сюда, под дождь и из-под дождя, и с любопытством присматривался, бормоча что-то, как бывалый водопроводчик, который не может надивиться неизвестной аварии, словно искал место, в котором пропускает прокладка. Почуяв, что дело определенно ускользает от бренного разума, старый К. начал искать выгоды:
— Ну это точно конец света… Но это означало бы… что если над нами вода, то под другими домами огонь, что адский пламень через мгновение поглотит этих голодранцев, а нас поливает, чтобы угасить!
Мать смотрела на чужие окна, облепленные сбродом ротозеев, наблюдавших эту сцену: дамы пенсионного возраста на специально возложенных на подоконниках подушках, чумазые юнцы, оторвавшиеся от игры в мяч, кормящие жены работников подземелья и сами работники подземелья в подтяжках на голых торсах — все столпились, все смотрели вниз, как на арену, как на христиан, ожидающих смерти, вот только пока не было известно, что их пожрет. Смотрели с нескрываемым удовлетворением, то и дело тыча пальцем на их небо и на свое небо, бросая незатейливые издевки:
— А зонтики вам не одолжить?
Так и не дождавшись пламени, старый К. потребовал:
— Возвращаемся домой, потому что сейчас здесь будет жарко, можем ошпариться. Будем из окон смотреть, как эти дебилы жарятся. Хорошо смеется тот, кто смеется последний, дебилы тут один на другом!
Эту последнюю фразу он бросил с отчаянной смелостью в сторону балконов, потому что как раз уходил под дождь, а за ним — брат его, высматривающий, соображающий, как бы тут отодвинуть границы ливня, а за ним и сестра, на коленях передвигающаяся по размытому следу за ними, намаливающая благочестие на тридцать лет вперед, взывающая к милосердию.
И только мать продолжала стоять на сухой стороне и смотреть, как они исчезают под дождем, и все звала и ждала, когда же появится собака, убежавшая за палкой в кусты, а когда собака прибежала, когда мать взяла ее на руки (потому что та не была дожделюбивой), когда направила первые шаги в сторону дома, вдруг все затряслось.
Загрохотало. Рухнуло. В себя ушло. В землю провалилось.
Дом на ее глазах в два счета сложился в руины, упал в подмытую дыру, прогнивший фундамент этого дома дрогнул, и все вдруг превратилось в груду мусора, затопленную в грязи, воде и дерьме, хлюпающем многосложной руладой, сбивающем мать с ног и выбивающем собаку из ее рук, все окрестные дома до самых крыш окатывающем, всех балконных ротозеев обрызгивающем, всех птиц облепляющем мерзкой жижей. Катастрофа была ужасной, туча вылилась до последней капли и позволила солнцу взглянуть на разрушения.
Ошарашенная, мать сидела, опершись о плетень, и удаляла воду из ушей.
— Боже, облицовка новая была, да и окон я этих столько намыла…
И только тут, перед последней гласной, голос ее оборвался, потому что дошло до нее, что не для кого больше говорить, потому что даже собака, то и дело отряхиваясь, потрусила своей таксовской рысцой обнюхивать руины; из обломков дома, торчащих из большой воронки, в которую он провалился, не доносилось никаких призывов о помощи, только тишина громадной смердящей лужи, мертвая тишина, могильная, лишь собачьи лапы шлепали по грязи, неуверенно, неритмично. И тогда с балконов стали доноситься йезусмарии и другие выражения сочувствия, и уже подбегали к ней, поднимали, вытирали, поддерживали, но мать вырвалась, чтобы пойти проверить, поискать, выгрести хоть что-нибудь из этого месива, рассчитывая, что среди фрагментов камней найдется хоть фрагментик знакомого тела, что, может, из нескольких кусков удастся что-нибудь сложить, восстановить, склеить. Она разгребала землю, копала руками, даже когда подъехали все эти пожарные и «скорые», когда ей предлагали лопату, она предпочла, сдирая кожу с голых ладоней, руками отвоевывать новые пространства; собака внюхивалась в ямы, иногда лаяла, но, скорее, на других собак, привезенных разными службами, и тут все соседи из люмпен-блоков и из соседних домов сбежались для того, чтобы копать, даже с дальних улиц, даже с самой Кладбищенской, — в конце концов, у могильщиков был свой опыт. Но с каждой слезой близился приговор, потому что после первого «есть!» от руки Илоны, жены соседа с первого этажа, добрались и до оставшегося от нее, а по направлению ее навеки застывшего взгляда был найден полуголый труп ее мужа, не успевшего переодеться в сухую одежду, и далее, копаясь в останках оснастки, в обрывках обстановки, в обломках окончательно разбитого целого, они натыкались на все новые тела: тетки, навсегда погруженной (в молитву), дяди, держащегося за отвертку как за последнюю спасительную соломинку… а потом… мать оттащили, несмотря на ее истерию и попытки вырваться.