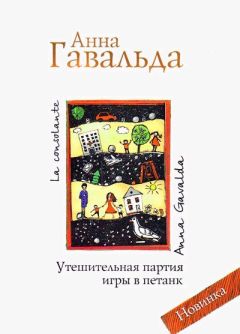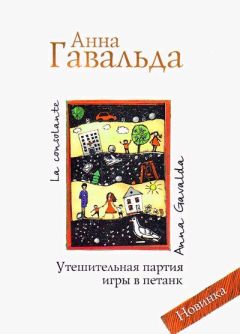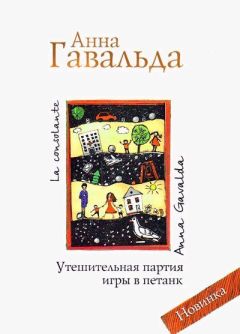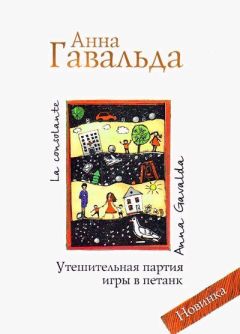Анна Гавальда - Утешительная партия игры в петанк
— Хотите знать, где я живу? В моих воспоминаниях… В давно исчезнувшем мире… Я рассказывал вам, как мы грели карандаши под лампою…
Мальчишки вздыхали: да, рассказывал тысячу раз. Про Андре Как Его Там с его розовой вишней и белой яблоней, про Великого мастера Йо-йо с ручными соловьями, про представления каждый вечер, а еще про этого русского, которому завязывали руки, и чтобы выпить водки, он откусывал горлышко у бутылки, и про хозяйку «Лестницы Иакова»,[76] запершую журналиста в угольном подвале, и про Милорда Хулигана и про настоящего «дворянина» Жанно Фламандца, который влезал на столы и, засовывая нос в бокалы с шампанским хорошеньких посетительниц, доставлял их своему пьянчуге-хозяину, и про тот вечер, когда Барбара вышла на сцену «Эклюза» и тебе пришлось потом восстанавливать макияж, потому что ты так плакал и…
Видя, что мы не очень-то во все это верим, Нуну обижался, и чтобы его утешить, мы упрашивали его изобразить нам Фреэль.[77] Он не сразу соглашался, но потом надувал щеки, стрелял у Анук сигарету, приклеивал ее к нижней губе, упирал руки в боки и орал хриплым голосом:
Гдеее же вы, мои друзья-а?
В гооости миилости прошууу!
Буду вечером ооооднаааа!
Моой-то умер пооуутру!
Вот уж они веселились, и любые Роллинг Стоунз могли отдыхать. Им и без них было отлично.
— Ну а когда я не живу воспоминаниями, я живу с вами, сами видите…
Хорошо, но где же ты пропадаешь все это время, если твоя самая красивая история любви это мы?[78]
Анук порылась в архивах больницы, нашла медицинскую карту его матери, набрала телефонный номер, поделилась своим беспокойством с пресловутой сестрой, выслушала, что ей ответили, положила трубку и упала со стула.
Коллеги подняли ее, померили давление, сунули ей в рот кусочек сахара, который она тут же выплюнула, измазавшись слюной.
Когда в тот вечер мальчишки, выйдя из коллежа, увидели ее лицо, они поняли, что Нуну их больше никогда уже не встретит.
Она повела их выпить горячего шоколаду:
— Мы просто не замечали, из-за его вечного макияжа и всего остального… А он был очень стар…
— Отчего он умер? — спросил Шарль.
— Я же сказала. От старости…
— Так мы его больше никогда не увидим?
— Зачем вы так говорите? Нет… я… я всегда…
Это были первые в их жизни похороны, и мальчишки секунду помедлили прежде, чем бросить горсти блесток и конфетти на гроб: и кто такой был этот Морис Шарпьё?
Никто с ними не поздоровался.
Аллеи опустели. Анук взяла их за руки, подошла к могиле и прошептала:
— Ну вот, дорогой Нуну… Всё в порядке? Ты снова с ними, с теми замечательными людьми, про которых ты нам все уши прожужжал. Там у вас сейчас наверняка настоящая вакханалия, да? А твои дрессированные пудели? Скажи нам… Они тоже там?
Потом мальчишки пошли прогуляться, а она присела рядом с ним, как много лет назад.
Бросила несколько камешков ему на голову, чтобы заставить его еще раз поднять глаза к небу, и выкурила последнюю сигарету в его обществе.
Спасибо, говорили завитки дыма. Спасибо.
На обратном пути они ехали молча, и в тот момент, когда, судя по всему, втроем думали об одном и том же: что жизнь, пожалуй, самый неудачный номер в программе этого чертов-го кабаре, Алексис наклонился вперед и врубил радио на полную громкость.
Ферре[79] уверял их, что все отлично, и они даже согласились в это поверить минуты на три, пока длилась эта дурацкая песня, но только потому, что Нуну знал его еще совсем ребенком. Потом Алексис выключил радио, заговорил о другом и — остался на второй год в седьмом классе.
Однажды вечером, обеспокоенная Анук решилась наконец с ним серьезно поговорить:
— Послушай, котенок…
— Чего?
— Почему ты всегда стараешься сменить тему, когда мы говорим о Нуну? Почему ты ни разу не заплакал? Он все же много значил в твоей жизни, разве нет?
Алексис сосредоточился на макаронах, но подцепляя вилкой расплавившийся грюйер, все же поднял голову и встретился с ней взглядом:
— Каждый раз, когда я вынимаю из футляра свою трубу, я чувствую его запах. Знаешь, запах старости, чуть…
— Да?
— А когда я играю, то это для него и…
— И?
— И когда мне говорят, что я играю хорошо, то это потому, что мне кажется, будто я плачу…
Если бы она могла, то именно в этот момент их жизни она обязательно обняла бы его. Но она не смела. Он уже не позволял.
— Ну… ты чего… расстроилась?
— Нет, что ты! Наоборот! Мне очень хорошо!
И она улыбнулась ему. И потянулась осторожно: руки, ладони, шея, и их склоненные головы соприкоснулись.
Шарль посмотрел на часы, развернулся и пошел обратно, на прощанье заглянув в крошечный грот, наподобие лурдских[80] («прогулка по стопам Людовика Святого», гласила табличка: какая чепуха!), и только уж когда снова оказался в машине, разразился своей Dies Irae[81] и покончил со всем этим.
«Да… А потом ведь он и ее покорил…» — слышал он голос Анук.
Он не стал с ней тогда спорить.
Его мать… Его мать быстро нашла, чем себя занять… хозяйство, статус, клумбы и все прочее. А потом и де Голль вернулся. Так что она в конце концов успокоилась.
Этот вопрос он обошел, но…
— Анук…
— Что, Шарль…
— Теперь ты ведь можешь мне сказать…
— Что именно?
— Как он умер… Молчание.
— Ты нам сказала от старости, но ведь ты соврала. Ведь это неправда?
— Да…
— Он покончил с собой?
— Нет.
Молчание.
— Не хочешь говорить?
— Иногда ложь — она лучше, понимаешь… Особенно про него… он вам подарил столько радости… Одни его чудесные фокусы…
— Его сбила машина?
— Его зарезали.
— …
— Я знала, — она проклинала себя. — И почему только я все время иду у тебя на поводу?
Повернулась и попросила счет.
— Видишь ли, Шарль, у тебя есть только один недостаток, но, черт возьми, весьма прискорбный… Ты слишком умен… А в жизни, поверь мне, есть вещи, для которых не существует правил… Когда я вошла в ресторан и увидела, чем ты занят, все эти твои расчеты… целуя тебя, я тебя жалела. Нельзя в твоем возрасте столько времени тратить на то, чтобы раскладывать жизнь по полочкам. Знаю, знаю: ты возразишь мне, что это твоя учеба и все такое, но… Так-то оно так. Только теперь, с сегодняшнего дня, когда ты будешь думать о последних часах лучшей в мире курицы-наседки, ты больше не увидишь перед собой старенького мсье, который мирно заснул, укатавшись в свои шали, предавшись воспоминаниям, нет, и в этом виноват только ты, ты один, дорогой мой, ты вцепишься в свой калькулятор и уже не сможешь сосредоточиться, потому что все, что ты увидишь за скобками своих паршивых уравнений со многими неизвестными, это старик, которого нашли голым в общественном туалете…
— …
— Без вставной челюсти, без кольца, без документов и без… Старик, который почти три недели провалялся в морге, пока какая-то женщина, сгорая со стыда, не соизволила его оттуда забрать, заставив себя в последний раз в жизни признать, что да, их все же связывают кровные узы и этот жалкий человеческий обрубок, увы, ее младший брат..
Она проводила меня до института, обернулась и бросилась мне на шею.
Нет, не меня она душила в своих объятиях, а память о Нуну, и если лекция, которую я потом слушал, показалась мне еще более сумбурной, чем то, что она скрепя сердце мне поведала, то вина в том не нашего старого плута, — который, в конечном итоге, устроил-таки представление из своей смерти — а моя, и только моя, ибо несмотря на отчаянные попытки представить себе его хладный труп с биркой на большом пальце ноги, я не смог скрыть от Анук охватившего меня возбуждения, и даже брюки не помогли… Уф, хотя к чему все так усложнять? Я хотел ее, и мне было стыдно.
Точка.
Третий час нас шпиговали Оканем[82] с его лекциями по геометрии бесконечно малых величин, и пусть она не говорит, что я умный, лишь потому что я примерно представляю, о чем толкует наша преподавательница… Да нет же, черт побери, она прекрасно видела, что я был не в себе! Она ведь даже отошла в сторону, качая головой.
Как всегда, я ждал, что она позвонит мне и снова пригласит пообедать, и ждал долго, это я помню хорошо…
Это признание, столь страшное и бесполезное, которое я сам же, болван, у нее и выпросил, означало для меня только одно: вместе с Нуну в тот день я окончательно распрощался с детством.
* * *В Париж возвращаться было рано, никто его там не ждал, поэтому он достал ежедневник и набрал номер, который уже много месяцев откладывал на потом.