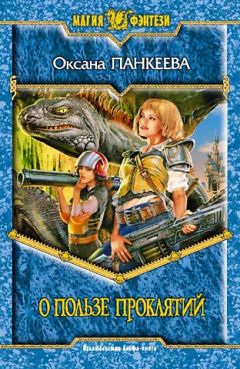Йозеф Винклер - Родная речь
Прошли те времена, когда ты вместе с братом бегал по деревенской улице и ставил ему ножку, когда тебе это нравилось. Прошло время летучих мышей, которые, точно спелые сливы, висели на водопроводных трубах в хлеву, пугая людей и животных. Миновала пора черных ласточек, раскрывших свои клювики, когда ты мог разглядеть красный клинышек зева и крошечный язык с налипшими насекомыми. Канул в прошлое студеный сортир, где покрывался морозным узором твой детский зад, а пальцы ног позвякивали сосульками. Прошли те времена, когда ты, как на работу, ходил в церковь и осенял крестным знамением лоб, уста и грудь Спасителя. Нет уже учителя сельской школы, который то и дело лупил по парте розгой в миллиметре от твоих пальцев и неустанно требовал тишины, тишины, а час спустя вместе с хором учеников благодарил Господа за плодотворный учебный день. Миновали те дни, когда ты снимал прут, перевязанный красной лентой, и спускался в хлев, чтобы отхлестать веревку. Отступили в даль детства муки, когда слева на тебя надвигается отец с веревкой, а справа — мать с прутом, а ты стоишь посередке и тебя прибивают к кресту, составленному из тел отца с веревкой и матери с прутом. Осталось в прошлом и колосящееся пшеничное поле, по которому ты шагал, размахивая руками, чтобы подбодрить возвышавшиеся над хлебами пугала. Да, время прошло, но оно вновь оживает в тебе, когда ты пожелал сам себя зачать и родить. Миновали те дни, когда в агонии вздыбилось налитое кровью крестообразное тело твоей родной деревни, когда вздрогнул нерв веревки и два мертвых юноши явились живущим, как кровавая язва. Много воды утекло с тех пор, как я в метель босиком обегал весь крест деревни, замедляя шаг из-за боли в пальцах ног и шепча посиневшими губами «Отче наш». Уже далек тот день, когда после смерти деда и бабушки мы с Михелем махнули в сугроб со второго этажа. Во мне миновало время свадеб и поминок, парней и девушек со сплетенными из колосьев кольцами на пальцах рук и ног, время юных парочек, которые занимались любовью на лесном мху или на сеновале под пологом паутины и гнездовьем летучих мышей. Прошло время, когда рано поутру крики петухов и павлинов заставляли вздрагивать детские головы. Миновала пора, когда умирающая бабушка Энц вытягивала руку и манила тебя указательным пальцем, подражая при этом крику сыча: «Ко мне! Ко мне! Ко мне!» Когда американцы высадились на Луне, у меня появилась надежда: а вдруг они встретят Бога и убьют его, мне так хотелось, чтобы нос космического корабля пробил ему сердце. Вы слышали, мистер Армстронг, стоны голодающих в Камбодже и в Бангладеш, когда сверху смотрели на Землю, где еще появляются на свет полумертвые синие младенцы, которые после легкого шлепка по затылку издают первый крик — крик голодного человеческого детеныша? Кто-то умирает голодной смертью еще в утробе матери, кто-то — на выжженной зноем земле… Ты насыщаешь сытых и моришь голодом истощенных. Ты, Боженька, всю жизнь был на стороне сильных мира сего. Твои жрецы в Первую и во Вторую мировую благословляли орудия убийства. Мне больше не нужен Бог, ни церковный, ни атомный, ни тот, кому служат законодатели, я не нуждаюсь в его присяжных, которые задирают кверху жопы и показывают свои трудовые мозоли. А что они высидели? Они наплодили преступников, а теперь обвиняют собственное детище. Давно пора судьям заняться моральными преступниками, а дела тех, кто крадет, чтобы выжить, и хоть как-то содействует более равномерному распределению благ земных, положить под толстенное сукно. Будучи учеником торгового училища, я посмотрел вестерн «Вздернуть его повыше!», где показана казнь на виселице двух семнадцатилетних конокрадов. Когда священник пробубнил слова последнего благословения, один из них закричал: «Я не хочу умирать! Снимите меня, гады! Я жить хочу!» Парни, а это были братья, хотели напоследок обнять друг друга, но они были связаны и на шеи обоих уже накинули петли. Под деревянным помостом, сооруженным специально для казни восьмерых приговоренных, стоял палач, он дернул за рычаг и одним махом отправил все восемь душ, как принято говорить, в мир иной. Восемь веревок разом натянулись. Тела раскачивались. Ступни двух белокурых парней столкнулись в полуметре над землей. Я собирал анонсы фильмов, завел у себя тетрадь киномана, куда аккуратно записывал имена режиссеров, исполнителей главных ролей, операторов и мастеров, изготовивших посмертные маски актеров. Место в кинотеатре было единственным сиденьем, к которому я готов был прирасти, а с ученической скамьи, с мягких кресел в бюрократических покоях я просто взлетал, как ликующая птица. Нужду я справлял, как правило, в туалетах кинотеатров. Перекусывал чаще всего в буфетах у входа в зрительные залы. Больше года я был квартирантом кассирши, продававшей билеты в кино. Мне перепадали бесплатные билеты, и я посмотрел много плохих и хороших фильмов. По вечерам, когда она приходила с работы, а я возвращался с вечерних занятий в Академии, где под конец дня чувствовал себя выжатым лимоном, она рассказывала о дискуссиях с коллегами по поводу фильмов. Я с удовольствием взял бы с собой в кинотеатр мою спутницу жизни — куклу, которую хозяйка нашла у меня под кроватью и накачала воздухом. Мы вместе смотрели бы какую-нибудь марионеточную кинокартину. Я бы купил для куклы билет, мы не разлучались бы с ней даже в туалете, мы уселись бы на подоконнике в фойе и наблюдали бы за входящими зрителями. Билетерша познакомила меня с киномехаником. «Мне бы хотелось стать когда-нибудь киномехаником», — сказал я господину Хакнеру, млея от мысли, что смогу посмотреть все фильмы, сидя в своей будке над головами зрителей и посылая волшебный луч из линзы проектора, чтобы высветить наконец уже знакомый кадр на экране. Я слышу стрекот аппарата, достаю из серебристых контейнеров бобины пленки. «Тут гляди в оба, а то перепутаешь бобины и заправишь не ту ленту, — сказал Хакнер. — Вот представь себе, поставишь первую часть "Вздернуть его повыше!" с Клинтом Иствудом, а вторую оторвешь от фильма Джерри Коттона с Надей Тиллер, ленты смонтируются, и что будет в конце картины? Клинт Иствуд лежит не на вольном воздухе рядом с очаровательной блондинкой, а с чернявой Надей Тиллер в пуленепробиваемом боксе какого-то крупного банка». В торговом училище я рассказывал про фильм «Вздернуть его повыше!», описывал, как в самом начале снизу вверх, в «лягушачьей перспективе» показаны болтавшиеся на весу ноги повешенного, как построен эпизод перегона ревущего скота через реку, как один ковбой вытащил из воды ослабевшего теленка и вынес его на берег. А после моего рассказа ко мне подвалил самый рослый из наших парней, Карл Манхарт, он схватил меня за уши, потянул вверх и гаркнул: «Вздернуть его повыше!» Я стоял на цыпочках, лицо у меня горело от стыда и ярости, я пытался стиснуть ему руку и вырваться, но он буквально поднимал меня за уши, я перебирал ногами, словно балетный танцор, а он снова на весь класс: «Вздернуть его повыше!»
Внутренние органы крестьян и крестьянок просвечивают сквозь стеклянные оболочки тел. Я вижу пульсацию сердец, взбухание и сжатие легких. Я шагаю по стеклянной земле кладбища и всматриваюсь в знакомые и незнакомые лица. Задерживаю взгляд на стеклянном чреве беременной женщины и прихожу в ужас, увидев собственное лицо. В любимой своей могиле я вижу свой остекленевший детский череп. Стеклянные тела Якоба и Роберта лежат в стеклянном двойном гробу. Я вижу их прозрачные лица и мертвые черепа с лоскутьями гниющей плоти. Я вглядываюсь в стеклянную грудь Якоба, в ней еще бьется сердце. Мысленно я хватаюсь за молоток и разбиваю стеклянную грудную клетку, чтобы достать сердце, но в последний момент, когда молоток еще не ударил по стеклу, а осколки медленно, как бывает в кино, не поплыли по воздуху, я отскакиваю назад. Я боюсь, что он откроет глаза, точно Дракула, когда тому всадили в сердце осиновый кол. Я вижу, как Дракула рвется на какое-то кладбище, спрыгивает с каменной стены и падает на большое, в рост человека, распятие, которое пронзает его, точно копье. В те дни, когда я прогуливал занятия в торговом училище и ходил на утренние сеансы кинотеатра «Аполлон» в Филлахе, ничто не завораживало меня так, как кровожадные фильмы про вампиров и жестокие вестерны — «Дикая банда», «Трупы мостят ему путь», «Джанго», «Вздернуть его повыше!». В тот вечер, когда я посмотрел «Колодец и маятник» по Эдгару По и лишь в половине седьмого вернулся на автобусе домой, отец, грозно печатая шаг, поднялся из хлева на кухню и сунул мне под нос кулак с веревкой: «Вот смотри, хорошенько смотри. Если еще хоть раз явишься так поздно, почувствуешь на своей шкуре». Я сидел, уставившись на кошачью миску, дрожал как осиновый лист и вдыхал навозный запах веревки. Долго не отваживался я нарушать отцовский запрет и приезжал домой вовремя — до тех пор, пока два года спустя не начал ходить на компьютерные курсы при училище, которые начинались во второй половине дня. С этого момента я ускользнул от надзора родителей. Правда, курсы занимали всего два дня в неделю, но я наврал, что после полудня у нас работает еще и кружок французского, а сам торчал в кинотеатрах или кафешках, где читал современную литературу. На карте моих ежедневных передвижений по улицам Филлаха красной линией соединяются точки, где я смотрел кино. В новеллах Эдгара Аллана По я находил явную перекличку с моей деревенской жизнью, так же как позднее, когда деревня и семья стали разрастаться уже во мне самом, я понял, насколько верно в романах Жана Жене и Ханса Хенни Янна сказано о том, что сотворили со мной эта деревня и семья, исправительно-образовательные колонии под названием «торговое училище» и «Академия торговли», новая среда в Клагенфурте и тюрьма с профессорско-преподавательским составом, именуемая Педагогическим институтом. Я баламутил домашних, я будоражил рутину образовательных тюрем, я прослыл смутьяном на молочном заводе, я был головной болью для руководства института, я всегда и всюду эпицентр беспокойства, и сейчас, оставляя на бумаге эти строки, тоже. Оно, должно быть, всю жизнь будет зудеть во мне и поддерживать мои силы. Оказавшись в иной, не деревенской среде, я старался ни словом, ни жестом не выдать своего крестьянского происхождения. Если меня спрашивали, не из крестьян ли я, краска стыда заливала мне лицо, я просто не мог в этом признаться. Однако же всякий раз, когда кто-нибудь из немецких или голландских дачников брал у нас молоко, я преисполнялся гордостью, я вглядывался в лица их детей, впитывал чужую речь и иные повадки и уверял, что я не такой, как братья, сестра и родители, что я совсем из другого теста, я и лицом не похож на них, даже говорю и двигаюсь иначе; а после выбегал из хлева в сад, и мне в каком-то неизъяснимом счастье так хотелось схватить топор, торчавший из чурбана, и, теша себя отрадным несходством с крестьянским сыном, рубануть не по еловому полену, а по собственному черепу. В этом смонтированном памятью фильме о прошлом я видел не только себя с топором в руке, когда мне предстояло найти ему достойное применение, я видел и слезы в глазах Пины, сетовавшей на то, что и ей хотелось бы ребеночка, да куда уж там, она ведь глухая, полуслепая и всю жизнь батрачит, сначала — на Айххольцеров, а потом, который десяток лет, на Энцев. Еще я слышал сопение отца в супружеской постели под синими глазами на павлиньих перьях и постанывание матери под иконой. Я видел розоватых поросят в плетеной корзине и руки матери, которые поглаживали поросячьи головки с такой же нежностью, как она гладила меня, якобы стараясь привести в порядок мою прическу. Я вижу идущего за плугом младшего брата, каждым своим шагом он повторяет наше общее крестьянское детство, его тоже били и мытарили, как дешевого батрака, и, узнав в этой картине прошлое братьев и свое собственное, я принимаю решение поставить точку в этой истории семьи и деревни, проститься с мертвыми и живыми и исчезнуть из родного угла, пока не подох здесь или не испытал удовольствия наблюдать, как подыхают другие. Я вижу плечи четверых мужчин, которые вырастают вокруг меня, справа, слева, спереди и сзади, а потом по знаку священника подхватывают и уносят гроб. В последних отблесках детства я вижу алое дерево, доносящее запах гари и дыма. Вижу очаг лесного пожара, слышу сирены пожарных машин, они понаехали отовсюду: из Патерниона, из Файштрица, из Ферндорфа. У ферндорфцев — лучший кадровый состав в пожарных шлемах, они бесстрашно вступят в лес и легко прогонят огненного дьявола. Но я надеюсь, что огонь распространится и пожрет еще один участок леса, так как этот кусок природы принадлежит крестьянину, у которого надо спрашивать разрешение на вход в его угодья, когда отправляешься в лес по грибы. Чем больше крестьянин богатеет, тем бесчеловечнее и глумливее его отношение к батракам и батрачкам, малоземельным и беднякам. Я наслаждался зрелищем горящего леса. Я не понимал, почему люди так переживают, когда загорается лес или сенной сарай, мне нравились такие пожары, которые уничтожают все на своем пути, огонь горячил мне кровь, я любил это состояние. В последних зарницах своего детства я вижу седины священника, вижу, как движутся его зрачки, когда он совершает крестное знамение над лицом покойника, и эта картина совмещается с другой, когда он же осеняет крестом лобик новорожденного. Я вижу, как легко и в то же время угрожающе клонится верхушка ели к дому Энгельмайера, порыв ветра — и слышится утробный треск ствола. С таким же треском раскалывалось полено, которое я ставил на чурбан. Я разрубал его, опьяненный радостью от того, что кто-то из дачников посреди хлева, в присутствии моего отца и матери, батрака и батрачки и нашей бессловесной скотины сказал, будто я не похож на деревенского, а выгляжу совсем как городской мальчик. На крестьянский двор я, можно сказать, попал контрабандным путем. Я — найденыш, меня подобрали в тростнике, среди скопища квакающих лягушек. Я не сын Якоба и Марии Винклеров, не отпрыск мужицкого рода Энцев из Камеринга, меня нашла моя приемная мать, когда, сняв черные шелковые чулки и засучив длинные, чуть не до колен панталоны, полезла в воду, чтобы нарвать кувшинок, тут она и увидела меня, я плавал в корзине, а вокруг заливались лягушки, она развела камышовые стебли, подняла и поцеловала меня, ни о чем не спрашивая. Следующее полено я разрубал, оповещая весь мир криком, пусть все знают, что я не крестьянский пацан и даже не сын того, кто распоряжается моим телом и моей душой без всяких бюрократических заморочек и не задумываясь о педагогических тонкостях, когда стегает меня веревкой.