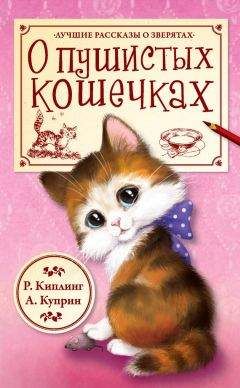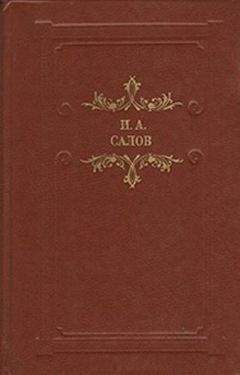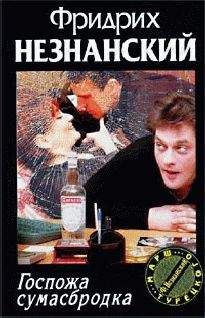Михаил Елизаров - Нагант
Я продолжал искать подобие любви. Судьба шутила, подбросив позабытое курортное знакомство трехлетней давности. Я пригласил без умысла, она поспешно сообщила, что выезжает. Гостья нагрянула с подругой. С превеликим трудом устроил их на ночь в общежитии у друзей. Мы спали втроем. Добрая девочка носила мягкие шелковые трусы. Сдвинутые в сторону, они не терли, а ласкали. Ее подруга изнывала в своем сне, металась, вскрикивала, желая проснуться и бодрствовать вместе с нами. Так и не проснулась, я не рискнул ее будить.
Зиму скрашивала новенькая Светлана. Она хворала страхом беременности, и этот страх гнал ее на член. Она восхитительно боялась. Я тоже пугался. Меня колотил озноб. Мы прятались под одеялом и жутко дрожали. Она была актриса, эта Светлана. Богема ростом метр шестьдесят.
В марте Фройляйн написала письмо. После соития, уже в дверях, она крепко, как на перроне, поцеловала меня, протянула конверт и выбежала вон.
Я кинулся читать:
«…все-таки решилась написать, поскольку это невозможно носить в себе. Я слишком слабая и слишком люблю тебя, люблю с того самого момента, когда впервые увидела. Я не верила раньше, что это бывает… Впрочем, теперь уже не важно. Ты знаешь, в последнее время я заметила, что в моих глазах поселились ужас и отчаяние, я вижу их в зеркале даже в минуты пьяного веселья, кстати, участившегося. Да, да, мой родной, могу винить во всем этом только мою любовь к тебе. Она отнюдь не созидательна, она разъедает меня изнутри, не оставляя никаких душевных сил. Я решилась убить эту любовь. Я верю, что выдержу.
Отлично понимаю всю пошлость и глупость своего письма как такового, но у меня нет сил сказать это тебе в лицо.
Также не устою перед соблазном использовать в свое оправдание аргументы об уязвленном самолюбии. Поверь, мужчины, окружающие меня, которым я нравлюсь (а их немало), несмотря на мое почти семейное положение, получая десятую долю моего внимания, уделяемого тебе, были бы если не счастливы, то хотя бы польщены, а ты… Прости за невольный упрек. Что они все в сравнении с тобой!
Я на себе почувствовала фразу, вырванную из какой-то книги: когда ты доверчиво отдашь себя в чьи-то руки, то кладешь начало своему проигрышу…
Никогда я так стремительно не падала. Помнишь, ты как-то сказал, что если у тебя сложится с Москвой, я смогу приезжать к тебе. Зачем?! Я не нужна тебе и здесь. От всей души желаю тебе счастья, верю в тебя, люблю тебя. Касаемо каких-то материальных штук, в частности, словарь синонимов, – передай их Альбине, когда она зайдет к тебе».
Словарь она забрала сама перед вручением письма. Меня расстроила такая чисто немецкая практичность. Увы, Татьяной и не пахло. В любовных строчках воспалились канцелярские аппендиксы «как таковые», «в частности», «касаемо». И неожиданно послышался гул самолета, рев штурмовой машины с черным крестом на фюзеляже, сизый штопор дыма, и Фройляйн, облаченная в комбинезон люфтваффе, кричала: «Никогда я так стремительно не падала!»
Теперь, спустя почти два года, я мну листок, зачитанный до серых швов на сгибах, и плачу круглыми бильярдными слезами.
Фройляйн позвонила в тот же вечер, сказала, если я не приеду, она примет таблетки. Я не приехал к ней, она не приняла таблеток. Она сдалась и отдалилась от меня, не быстро – в несколько недель.
Альбина вдруг сказала, что Алеша застукал Фройляйн с парнем, неким мышьячным отравителем из эпидемконторы. Крысолов увлек измученную Фройляйн. Альбинушка, подъездная кума, смеялась, я тоже хохотал. Извечный бытовой конфуз. В одно не верилось – возможно ли, что чувства ко мне такой недолговечный, скоропортящийся продукт.
Настало лето, они были июльскими, мои девчонки Фройляйн и Альбина, и обе не пригласили меня на свои дни рождения. Альбина больше не пела мне песенку и вообще перестала брать в рот. Потом мы обрезинили наш секс, с гондонами он сам сошел на нет. Ушла Альбина. Актриса Светлана умерла от страха. Осень я встретил в одиночестве.
В октябре связался с Фройляйн. Открылся лаз. У Фройляйн задержалась книга, немецкий классик – утонченный повод для свидания. Я проклинаю эту слабость, ненавижу свою шерстяную сущность. Как старый свитер, весь в зацепках, я, бурлак отмерших сношений, тяну гирлянду крючковатых женщин. По нитяным тончайшим пуповинам к ним течет моя привычка. Они – моя во времени растянутая плоть. Когда от перенапряжения рвется нить, я месяцами оплакиваю потерянный и ненавистный выкидыш. Как старый сфинктер, я не умею пресекать и вяло истекаю горькою любовью.
А Фройляйн продолжала встречаться с Алешей. Второй зимою состоялся обмен рогами – время поменяло нас местами, и вышло так, что это я встречаюсь с Фройляйн, а изменяют мне с Алешей. Я намекнул, что надо сделать выбор. Фройляйн отвечала, что выбор состоялся уже давно, два месяца назад. Я успокоился и принял бремя мезальянса, повторяя себе, что слишком хорош для Фройляйн, но оставался с ней и, значит, не настолько был хорош.
Она ждала признания в любви. Используя мгновенья до оргазма, допрашивала, вышибала:
– Ты любишь меня, ну скажи, скажи!
Однажды я сломался, произнес эти слова, а после повторял их по привычке. И с того момента немецкий враг вступил на мою землю. Из божества с нефритовым пенисом я превратился в смертного бой-френда. Фройляйн уверенно освоилась с устною любовью и обнаглела. Через какой-то месяц Фройляйн позволяла себе даже высмеивать мой постельный лепет.
– Я не пойму, что ты бормочешь! – она уже пыталась причинять мне боль. С изящным постоянством она сводила наши разговоры к обсуждению прошлых ее отношений. Казалось, ей доставляло злую радость равнять меня с другими.
Мы были вместе, а Новый год встречали порознь. Я ей наврал, что собираюсь отмечать праздник в кругу семьи, а сам поехал за лучшей долей к новой подруге. Муж задержался на работе и был наказан, потом собрались гости, и вернулся муж и ел отравленные груши. Пришла и та, которой я предназначался, – иначе кто б меня позвал? Подруга коварно говорила мужу – представь, как Ленке будет скучно без кавалера, и думала, что я, конечно же, не посмотрю на Ленку, а я смотрел, но так, чтоб не обиделась подруга. В ее глазах читалось крупным шрифтом – не смей, и я дождался, когда упал последний гость, когда ушла в кровать подруга с мужем, в последний раз взглянув – не смей. И все-таки осмелился.
А на границе, в крае тишины и хмурых туч, готовилась очередная провокация. Фройляйн вдруг сказала, что идет на дискотеку. В тот день я был подавлен бытовой бедой – какая разница, сломался холодильник или косо посмотрели. Мысль о чьем-нибудь веселье просто возмущала. Кощунственны любые танцы.
Она сказала:
– Ты не имеешь права запрещать мне…
Я бросил контраргумент:
– Как можно веселиться, если твоему близкому невесело!
Фройляйн невозмутимо собиралась: трусы, бюстгальтер.
Я предупредил:
– Запомни, если уйдешь, то навсегда.
– Ты – собственник и черствый эгоист, – сказала Фройляйн. Колготки, юбка, свитер. – Мне нужно отдохнуть, развеяться.
Меня она с собой не приглашала.
– Там я ощущаю всю полноту жизни, а с тобою чувствую, что задыхаюсь.
Скотина. Тварь.
Я иронично хмыкнул:
– Ты, девочка, кусок сырого мяса, который дьявол подбрасывает на сковородке под отвратительную музыку.
– Ну и сиди в своем монастыре, а я поеду развлекаться.
Ботинки, шарф, пальто.
Она была прекрасна в порывах примитивного инстинкта. Я знал ее манеру отдыхать, чтоб алкоголь и на лобке рука. Ушла. А мне не верилось.
«Алеша? – ошпарила догадка. – Или Крысолов?»
Я, упиваясь собственным позором, через минуту бросился за Фройляйн. Отвоевать бесчувственную самку, и на цепь! Спугнув свидетельниц-подружек, себя не помня, грозил, упрашивал. Чудовищный спектакль.
Я приволок ее за шиворот домой, она рыдала:
– Какое ты имеешь право?
Я отвечал:
– Люблю.
Я лгал, я ненавидел.
Был заключен печально всем известный пакт, грустный триумф советских дипломатов. Что ж, сексуальный мор на Украине, расстрел Альбины Блюхер-Тухачевской и высшего командного состава не прошел бесследно, и финская война безжалостно и откровенно вскрыла несовершенство техники и атмосферу разложенья в армии и флоте, тактическое превосходство противника и уйму прочих недостатков.
На двадцать третье февраля Фройляйн отдарилась дезодорантом, я на Восьмое марта преподнес ей книгу и веточку мимозы. Приличия формально соблюдались. До лета нас сотрясали мелкие конфликты.
Однажды в мае Фройляйн заявила, что у нее нет сил для наших отношений, они поизносились, перезрели, как выставочный плод, большой от времени, пустой и без семян. Я согласился с ней, признался, что все равно на ней бы не женился. Она размазывала по щекам густые вазелиновые слезы: «Ну, почему?» – я пожимал плечами. Май осенил меня спокойствием. В нем поселился чудный призрак девушки в машине цвета и формы леденца из детства. Мятная на вкус красавица, а не усатый, хнычущий капрал: «Ну, почему?»