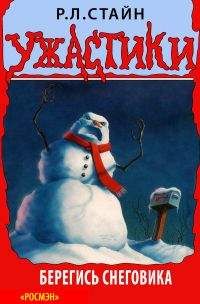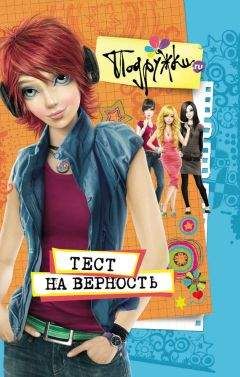Джоди Пиколт - Чужое сердце
Пять минут спустя я снова стояла перед женщиной-линкором.
– Ваш пациент уже здесь? – спросила она.
– Ну да. Это я.
Она отложила ручку.
– Теперь, значит, вы больны. А раньше не были.
Я пожала плечами.
– Вероятно, аппендицит…
Медсестра опять поджала губы.
– Должна вас предупредить: плата за посещение пункта первой помощи составляет сто пятьдесят долларов. Даже для симулянтов.
– То есть страховка не…
– Нет.
Я вспомнила Шэя. Вспомнила, с каким звуком сходятся металлические створки тюремной двери.
– Острая боль. В брюшной полости.
– С какой стороны?
– С левой?… – Глаза медсестры сузились до щелок. – В смысле, со второй левой стороны.
– Присаживайтесь, – велела она.
Я вернулась в приемную и, прежде чем меня вызвали в кабинет, успела прочесть от корки до корки два номера журнала «Пипл» (оба были ненамного младше меня самой). Медсестра – помоложе дежурной, в розовом халате – померила мне кровяное давление и температуру. Пока она заполняла историю болезни, я пыталась вспомнить, преследуется ли по закону фальсификация собственной медицинской карточки.
Затем я улеглась на смотровый стол и стала искать Вальдо на прилепленном к потолку плакате. Через несколько минут вошел врач.
– Мисс Блум?
Чего греха таить, он оказался писаным красавцем. Черные как смоль волосы и глаза цвета голубики, росшей в саду моих родителей, – то есть почти фиолетовые под одним утлом и полупрозрачные под другим. Улыбкой его можно было пользоваться как скальпелем. Под белым халатом проглядывала джинсовая рубашка и галстук, усеянный куколками Барби.
Скорее всего, дома его ждала такая же Барби, только живая – невестушка с параметрами 90-60-90 и двумя дипломами, юриста и врача или астрофизика и политолога.
Наш роман закончился еще до того, как я успела вымолвить хоть слово.
– Вас зовут мисс Блум?
И как я не заметила его британский акцент?
– Да, – сказала я, больше всего на свете желая быть кем-то другим.
– Меня зовут доктор Галлахер, – сказал он, присаживаясь. – Будьте добры, объясните, в чем дело.
– Ну, в общем-то, ни в чем… Я вполне здорова.
– Если вы не знали, люди с аппендицитом обычно считаются больными.
«Больными». Он так приятно произносил это мягкое «л»! А ведь он, наверное, употребляет еще и слова «лифт», «туалет» и «лес».
– Давайте я вас осмотрю, – предложил он. Закрепив стетоскоп в ушах, он просунул другой конец прибора мне под блузу. Я уже и не помнила, когда мужчина забирался мне под блузу последний раз. – Дышите спокойно, – скомандовал он.
Ага, проще простого.
– Я абсолютно здорова, – повторила я. – Честно.
– Не шевелитесь, пожалуйста.
Этого было достаточно, чтобы я камнем рухнула с небес на землю. Ощупав мой живот, он сразу поймет, что, во-первых, никакого аппендицита у меня нет, а во-вторых, на завтрак я съела два жирных пончика. Хотя всем известно, что один пончик переваривается три дня.
– У меня нет аппендицита, – брякнула я. – Я соврала медсестре, чтобы поговорить с вами…
– Ладно, – негромко сказал он. – Сейчас я позову доктора Тавасака. Уверен, она с радостью с вами поговорит… – Он открыл дверь кабинета и крикнул: – Сью! Отправь сообщение психиа.
Отлично! Он принял меня за умалишенную.
– Мне не нужен психиатр, – сказала я. – Я работаю адвокатом, и мне нужна медицинская консультация для моего клиента.
Я замерла, ожидая, что сейчас доктор Галлахер вызовет охрану, но он спокойно сел и сложил руки на груди.
– Я слушаю.
– Вы разбираетесь в трансплантации сердца?
– Немного. Но могу вам сразу сказать; что если вашему клиенту нужно пересадить сердце, то он должен стать на учет в СОДО[16] и ждать, как любой другой человек…
– Ему не нужно пересаживать сердце. Он сам хочет стать донором.
Я наблюдала, как преображается его лицо от осознания, что мой клиент, очевидно, осужден на смерть. В Нью-Хэмпшире в последнее время было не так уж много смертников, изъявивших желание пожертвовать свои органы.
– Его скоро казнят, – догадался доктор Галлахер.
– Да. Через смертельную инъекцию.
– В таком случае он не сможет отдать свое сердце. У донора сердца должен быть мертв только мозг, а инъекция приводит к сердечной смерти. Иными словами, как только сердце вашего клиента перестанет биться во время казни, оно уже не сможет функционировать в чьем-либо организме.
Я знала это. Об этом мне рассказал отец Майкл, но верить в это я отказывалась.
– Интересное совпадение, – сказал врач. – Если я не ошибаюсь, заключенным вводят калий – химическое соединение, которое останавливает сердце. Такое же соединение мы используем в кардиоплегическом растворе, который впрыскивают в донорское сердце непосредственно перед операцией. Благодаря ему сердце временно останавливается, лишаясь нормального кровообращения, и начинает биться вновь лишь после того, как все швы наложены. – Он поднял глаза. – Тюремное начальство, как я понимаю, не согласится на хирургическую резекцию, то бишь удаление сердца, в качестве способа казни?
Я покачала головой.
– Казнь должна быть осуществлена в здании тюрьмы.
Он лишь развел руками.
– Не могу поверить, что произношу эти слова, но мне действительно жаль, что наша система наказаний отказалась от расстрелов. Прицельный выстрел мог сделать из заключенного идеального донора. Сгодилось бы даже повешение – при условии, что после подтвержденной смерти мозга человеку надели бы респиратор. – Он вдруг вздрогнул. – Извините. Я привык спасать пациентов, а не убивать их, пусть и теоретически.
– Я понимаю.
– С другой стороны, если бы он даже мог пожертвовать свое сердце, орган взрослого человека, скорее всего, оказался бы слишком крупным для детского тела. Этим нюансом, насколько я понял, еще никто не поинтересовался?
Я опять покачала головой, чувствуя, что шансов у Шэя становится все меньше.
– Боюсь, новости неутешительные: вашему клиенту не удастся осуществить задуманное.
– А утешительные новости у вас есть?
– Конечно, – усмехнулся доктор Галлахер. – Ваш аппендикс в полном порядке, мисс Блум.
– Дело вот в чем, – сказала я Оливеру, когда принесла из кухни достаточно китайской еды, чтобы накормить семью из четырех человек. В конце концов, если не управимся, можно оставить на следующий раз, а Оливер очень любит овощи му-шу. Хотя мама уверяет, что кролики не едят человеческой пищи. – В штате Нью-Хэмпшир никого не казнили уже шестьдесят девять лет. Нам кажется, что смертельная инъекция – это единственный приемлемый способ, но это вовсе не означает, что мы правы.
Я сунула в рот горсть макарон.
– Где-то здесь… – пробормотала я.
Кролик беззаботно перепрыгнул через очередную груду юридических документов, рассыпанных на полу в гостиной. В мои привычки не входило чтение уголовного кодекса штата Нью-Хэмпшир, и теперь я плавала в его разделах и подразделах, словно в патоке. Стоило перевернуть страницу – и предыдущий абзац безвозвратно терялся в гуще текста.
Смерть.
Смертная казнь.
Тяжкое убийство, караемое смертной казнью.
Инъекция, смертельная.
630:5 (XIII). При вынесении смертного приговора обвиняемый должен быть помещен в тюрьму штата, находящуюся в городе Конкорд, и находиться там до исполнения меры наказания, каковое должно быть назначено не ранее чем через год после вынесения приговора.
В случае Шэя – через одиннадцать лет.
Смертная казнь осуществляется путем продолжительного внутривенного введения не совместимого с жизнью объема барбитурата сверхкратковременного действия в сочетании с химическим паралитическим средством до наступления смерти, каковую должен подтвердить дипломированный врач согласно общепризнанным нормам медицинской практики.
Все мои знания о смертной казни были почерпнуты из работы в АОЗГС. До того я практически не думала об этом институте – ну, кого-то там казнили, а СМИ раздували из этого сенсацию. Теперь же я знала убитых поименно. Я знала, что иногда они молят о пощаде. Знала, что после казни некоторые осужденные оказывались невиновными.
Это должно было быть сродни усыплению собак: начинаешь клевать носом, а потом уже не просыпаешься. Без боли и стресса. Состояла инъекция из трех препаратов: натриевого пентотала – успокоительного для погружения в сон, павулона, парализующего мышцы и останавливающего дыхание, и хлорида калия, влекущего за собой остановку сердца. Натриевый пентотал обладал сверхкратковременным действием, то есть человек запросто мог прийти в себя. Это также означало, что нервные окончания человека могли сохранять чувствительность, но доза успокоительного была настолько велика, что говорить либо двигаться он не мог.