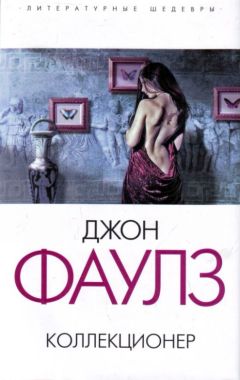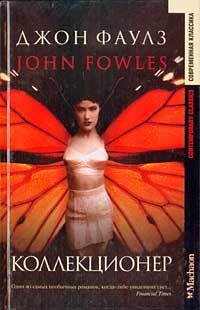Джон Фаулз - Дэниел Мартин
Его горе было много сильнее, чем он ожидал; он почти решил, что обманулся, считая, что наконец-то, в последние два месяца, пришёл к пониманию самого себя, к пониманию, которое только что пытался передать ей; что попался в собственные сети, стал кем-то, кем на самом деле вовсе не был. Словно он, высосав из её раны яд того настроения, в котором Дженни пришла в «пивнушку», сам отравился этим ядом. Наконец он встал, прошёл под грабами вдоль дома, но, дойдя до въездной аллеи, вместо того чтобы пойти вверх к выходу на Хэмпстед-лейн, последовал примеру двух других посетителей и, смутно припоминая, что здесь должна быть картинная галерея, вошёл в дверь. Он бродил по залам маленького дворца, фактически ни на что не глядя, пока, совершенно случайно, в самом последнем зале, не оказался перед знаменитым поздним автопортретом Рембрандта.
С полотна глядел печальный, гордый старик, и в его вечном взгляде виделось не только ясное понимание того, что он — гений, но и сознание, что всякий гений неадекватен человеческой реальности. Дэн смотрел ему в глаза. Казалось, портрету неловко здесь в этой уютной гостиной восемнадцатого века, возвещать истину, ради отрицания которой и создавалась подобная обстановка. Высшее благородство этого искусства, плебейская простота этой печали… бессмертный, угрюмый старый голландец… глубочайшее внутреннее одиночество, выставленное на всеобщее обозрение… дата под рамой, но — неизбывное присутствие, настоящесть, вопреки времени, моде, языку общения… оплывшее лицо, старческие глаза в покрасневших веках — и неутолимое зрение провидца.
Дэн почувствовал, что он мал, словно карлик, как мал его век, его личное существование, его искусство. Казалось, великая картина обвиняет, чуть ли не отвергает… И всё же она жила, была вне времени, говорила… о том, чего ему никогда не удавалось сказать и никогда не удастся… хотя на самом деле вряд ли он успел всерьёз подумать об этом до того момента, когда, неожиданно для себя самого, решится высказать эту мысль женщине, которая будет ждать его вечером на вокзальной платформе в Оксфорде; он расскажет ей и о том, что произошло раньше, — о девушке и о прошлом, что исчезли среди деревьев зимнего леса, — зная, что она всё поймёт. Он немножко солгал Дженни, чтобы облегчить ей разлуку. Но теперь он хранил это в секрете как свою личную разделённую тайну, свою загадку: это позволяло ему вообразить реальное и воплотить в реальность воображаемое. Стоя в зале музея, перед портретом Рембрандта, он испытал нечто вроде головокружения — от тех расстояний, на которые ему предстояло вернуться назад. Ему показалось устрашающим это самое последнее совпадение из тех, что выпали ему на долю за не такое уж долгое время, эта встреча, произошедшая сразу же вслед за прощанием со столь многим, не просто с одним девичьим лицом, одним выбором, одним будущим… встреча с этим грозным часовым, охраняющим путь назад.
Только одно утешение смог он разглядеть в безжалостных и отстранённых глазах старого голландца. В конечном счёте дело не в умении, не в знании, не в интеллекте; не в везении или невезении; но в том, чтобы предпочесть чувство и научиться чувствовать. Дэн в конце концов распознал это за внешними чертами портрета: за суровостью крылось провозглашение единственно мыслимого союза ума и души, дозволенного человечеству, главной максимы гуманизма. Нет истинного сострадания без воли, нет истинной воли без сострадания.
В зале появилась группа школьников, зазвучали детские голоса. Покой был нарушен, и Дэн двинулся прочь. Но, выходя из зала, он на миг обернулся на старика в углу. Школьники беспокойной стайкой собрались перед портретом, утомлённая и растерянная учительница пыталась что-то им объяснять. Но над юными головами глаза Рембрандта, казалось, не переставали неумолимо следить за Дэном… давным-давно, когда ему было столько же лет, сколько этим ребятишкам, его отец невольно перепугал сына: глаза Христа, утверждал он, следуют за тобой повсюду… куда бы ты ни пошёл, что бы ты ни делал — они следят.
В тот вечер, в Оксфорде, склонясь над Джейн, готовившей на кухне ужин, Дэн сообщил ей с подобающей случаю иронией, что нашёл последнюю фразу для романа, который не собирается писать. Она рассмеялась — типично ирландский парадокс; может быть, именно поэтому, в конце концов поняв, что этот роман никогда не будет прочитан, ибо весь целиком и навсегда существует лишь в будущем, плохо скрываемый призрак Дэна поставил его несуществующую последнюю фразу в несуществующее начало своего собственного романа.
1
Антонио Грамши (1891–1937) — основатель и руководитель коммунистической партии Италии, теоретик-марксист, по образованию филолог. В 1928 г. фашистским трибуналом был приговорён к 20 годам тюремного заключения. Умер через несколько дней после формального освобождения по амнистии. Его теоретические работы в области истории, философии и культуры вошли в его «Тюремные тетради».
2
Георгос Сеферис (George Seferis, 1900–1971) — греческий поэт, эссеист, дипломат (посол Греции в Лондоне, 1937–1962); лауреат Нобелевской премии по литературе 1963 г.
3
Английские косы имеют особым образом изогнутое косовище (рукоять) и длинное, слегка изогнутое лезвие.
4
Золотые плоды Примаверы — апельсины на картине Боттичелли «Примавера» («Весна»); «красавица из Бата», «вдова Пелам» — названия сортов яблок ассоциируются у мальчика с именами героинь литературных произведений: сказки «Красавица и Чудище» (в пересказе Мадам де Бомон) и романа Е. Бульвер-Литтона «Приключения джентльмена».
5
Девонский диалект — диалект, на котором говорят крестьяне в графстве Девоншир.
6
Ищейка — помесь шотландской овчарки с гончей.
7
Аргус — в древнегреческой мифологии многоглазый великан, бдительный страж возлюбленной Зевса — жрицы Ио; был убит Гермесом. После смерти был превращён в павлина.
8
Нимрод — правнук Ноя, отважный охотник (Библия. Быт. 10, 8–9).
9
Благочинный — здесь: священник, наблюдающий за духовенством нескольких приходов.
10
«Бидермейер» — аляповатый, вычурный стиль мебели, характерный для периода 1815–1848 гг. в Германии; в переносном значении — мещанский.
11