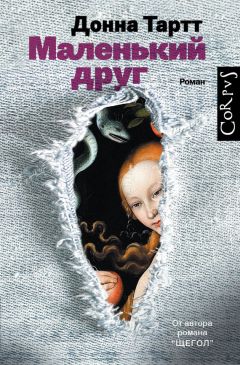Донна Тартт - Щегол
И я надеюсь, что в этом сокрыта какая-то высшая истина о страданиях, по меньшей мере в моем понимании – хотя я давно понял, что для меня важны только те истины, которых я не понимаю и не смогу понять. Все загадочное, двусмысленное, неизъяснимое. Все, что не укладывается в историю, все, у чего нет никакой истории. Пятно света на еле заметной цепочке. Солнечный луч на желтой стене. Одиночество, что отделяет живое существо от другого живого существа. Печаль, что неотделима от радости.
Потому как, а что если именно вот этого щегла (ни с каким другим его не спутаешь) так и не поймали бы или он не родился бы в неволе, не был бы выставлен напоказ в каком-нибудь доме, где его увидел художник Фабрициус? Он так, наверное, никогда и не понял, отчего ему приходится жить в таких ужасных условиях: его сбивал с толку шум, мучили дым, собачий лай и запахи с кухни, его дразнили пьяницы и дети, а полет его был ограничен коротенькой цепочкой. Но даже ребенку видно, с каким он держится достоинством: храбрый наперсточек, пух да хрупкие косточки. Не пугливая, утратившая всякую надежду птичка, а безмятежная, спокойная. Которая отказывается покидать этот мир.
И я все чаще и чаще думаю об этом ее отказе – покидать этот мир. Потому что плевать я хотел, что там говорят люди и как часто и как уверенно они это повторяют: никто, никто и никогда не убедит меня в том, что жизнь – это главный приз, величайший дар. Потому что вот вам правда: жизнь – это катастрофа. Сама суть нашего существования, когда мы мечемся туда-сюда, пытаясь себя прокормить, обрести друзей и сделать что-то там еще по списку – есть катастрофа. Забудьте вы все эти глупости в духе “Нашего городка”, которые только и слышишь отовсюду: про то, какое это чудо – новорожденный младенчик, про то, сколько радости сокрыто в одном-единственном цветке, про то, как неисповедимы пути, и т. д и т. п. Как по мне – и я упорно буду твердить это, пока не умру, пока не рухну в грязь своей неблагодарной нигилистичной рожей, пока не ослабею настолько, что не смогу и ни слова выговорить: уж лучше не рождаться вовсе, чем появиться на свет в этой сточной канаве. В этой выгребной яме больничных кроватей, гробов и разбитых сердец. Ни выйти на свободу, ни подать апелляцию, ни “начать все заново”, как любила говаривать Ксандра, путь вперед только один – к старости и утратам, и только один выход – смерть.
[“Служба жалоб и обращений!” – помню я, как в детстве ворчал Борис, когда мы как-то вечером у него дома завели довольно-таки метафизическую беседу о наших матерях: как так вышло, что они – ангелы, богини – умерли, а наши ужасные папаши процветают, бухают, шляются туда-сюда, творят черт-те что, вечно что-то рушат и крушат, да еще при этом живы-здоровы? – “Они не тех забрали! Это все ошибка! Так нечестно! Кому нам тут жаловаться, в такой-то дыре? Кто тут главный?”]
И – может, конечно, глупо и дальше распространяться на эту тему, хотя, какая разница, все равно этого никто не прочтет – но есть ли смысл в том, чтоб знать, что для всех, даже для самых счастливейших из нас, все окончится плохо, что в конце концов мы потеряем все, что имело для нас хоть какое-то значение – и в то же время, несмотря на все это, понимать, что хоть в игре и высоки ставки, в нее возможно даже играть с радостью?
Кажется, совершенно безнадежно искать в этом какой-то смысл. Может, я этот смысл и вижу только потому, что слишком долго на все это пялюсь. А с другой стороны, перефразируя Бориса, можно сказать, что я вижу смысл, потому что он там есть.
И я написал это, чтобы хоть как-то смочь во всем этом разобраться. Но с другой стороны, я и не хочу разбираться, не хочу ничего понимать, потому что тогда исказятся все факты. А потому я точно знаю только одно – никогда раньше будущее не казалось мне таким непознанным: никогда я так остро не чувствовал утекающий песок в часах, быстрокрылую лихорадку времени. Неизвестную, нежеланную, не нами выбранную силу. И я уже столько времени нахожусь в пути, предрассветные отели в странных городах, я так долго в дороге, что чувствую у себя в костях взлетную дрожь самолета, всем телом помню движение сквозь континенты и временные зоны, которое не отпускает меня и после того, как я вышел из самолета и добрался до очередной стойки регистрации. Привет, меня зовут Эмма / Селина / Чарли / Доминик, добро пожаловать туда-то и сюда-то! Вымученные улыбки, расписываешься трясущейся рукой, опускаешь очередные жалюзи, ложишься на еще одну незнакомую кровать в незнакомой комнате, которая вертится вокруг меня, облака и тени, тошнота почти что до облегчения, чувство, что я умер и попал на небо.
Потому что – вот только вчера ночью мне снились дорога и змеи, полосатые ядовитые змеи с приплюснутыми заостренными головами, но хоть они и были рядом со мной, я их не боялся, ни капельки. А в голове у меня звучала строка из какого-то стихотворения: Рядом с тобой мы забываем о смерти. Вот какие уроки я усваиваю в затененных гостиничных номерах с ярко освещенными мини-барами и чужестранными голосами в коридорах, где истончается граница между мирами.
И чем дальше – после Амстердама, который на самом деле стал для меня Дамаском, моей “остановкой по требованию”, точкой моего похоже что обращения, – тем больше меня завораживает гостиничная временность, не в каком-то земном смысле, мол, отдохнул – езжай дальше, а так, что в пылу я начинаю видеть в этом что-то надмирное. Недавно, в октябре, как раз незадолго до Дня мертвецов, я очутился в мексиканском отеле на побережье, где занавеси в коридорах трепыхались от ветра, а все номера были названы в честь цветов. Номер “Азалия”, номер “Камелия”, номер “Олеандр”. Роскошь и изобилие, прохладные коридоры, которые все словно бы вели в вечность, номера с разноцветными дверями. Пион, Глициния, Роза, Страстоцвет. И как знать, может, это и ждет нас в конце пути, величие, о котором мы и помыслить не могли, ровно до тех пор, пока перед нами не открылись ведущие к нему двери, на которое мы будем глядеть в изумлении, когда Господь наконец уберет ладони от наших глаз и скажет: Смотри!
[А ты не думал с этим завязать? спросил я, когда в “Этой замечательной жизни” показывали скучную сцену, прогулку под луной с Донной Рид – мы были в Антверпене, я смотрел, как Борис при помощи ложечки и нескольких капель воды из пипетки мешает себе, как он выражался, “настоечку”.
Ой, ну хватит! У меня рука болит! Он уже показывал мне кровавый, почерневший по краям след от пули, которая основательно чиркнула его по мышце. Вот пусть тебя в Рождество подстрелят, и посмотрим, как ты тут будешь сидеть на одном аспирине!
Да, но так, как ты сейчас – вообще лучше не делать.