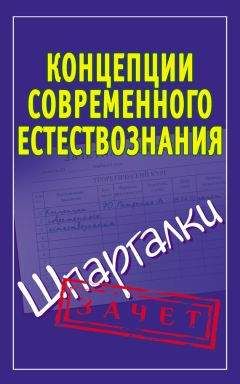Мир всем - Богданова Ирина
— Нет, конечно! Я всегда рада помочь.
— Ну вот и отлично. Жду вас сегодня после уроков у себя в кабинете. В качестве компенсации обещаю обеспечить чай и печенье.
После уроков я освободилась около трёх часов дня, когда серый день за окном медленно готовился плавно перетечь в пасмурный вечер. В ноябре темнеет рано, и к шести часам на улице станет совсем темно. Но я любила ленинградский сумрак с жёлтыми каплями фонарей вдоль улиц и чернильной водой Невы с застывшими фигурами каменных сфинксов напротив Академии художеств.
В школьном коридоре свет ещё не горел. Я взяла под мышку портфель, набитый тетрадками с контрольной по арифметике, и постучала в кабинет директора.
— Роман Романович, можно? Я пришла подписывать похвальные грамоты.
Подняв голову от бумаг на столе, он быстро встал:
— Конечно, проходите, Антонина Сергеевна, я вас ждал.
Роман Романович зажёг настольную лампу, и на портрете Сталина на стене световой круг от абажура обрисовал руку с зажатой трубкой.
«Плохой пример для ребят», — искрой мелькнула в мозгу назидательная педагогическая мысль, тут же исчезнувшая от вида подноса с двумя стаканами чая. То, что Роман Романович собирался пить со мной чай, заставило меня смутиться. Совместное чаепитие наедине точно не входило в мои планы. Я вообще предпочитаю дистанцироваться от начальства, почитая за благо собственную независимость.
Меня вгоняли в краску излишне настойчивые взгляды директора и его предупредительный тон, когда он поставил передо мной стакан чая в ажурном подстаканнике и придвинул коробку конфет с рисунком огромной аляповатой розы на чёрном фоне.
— Угощайтесь, дорогая Антонина… — как бы невзначай он проглотил моё отчество, и мне стало окончательно не по себе.
Конфеты, да ещё в коробке, при нашей карточной системе представляли собой роскошь из коммерческих магазинов, где продавались за непозволительные, на мой взгляд, деньги. Я подумала, что в коробке наверняка лежат конфеты-ассорти с давно и прочно забытым вкусом праздника.
Я решительно отказалась:
— Спасибо, я только выпью чаю без сахара. Не люблю сладкого.
— Неужели совсем не любите?
— Совсем, — бодро соврала я, чтобы отвязаться от назойливого внимания.
Конфет хотелось ужасно, и я села так, чтоб коробка оказалась вне поля моего зрения и случайно не притянула заинтересованный взгляд. В полном молчании я чуть ли не залпом выпила свой стакан чая и со стуком поставила его на поднос:
— Спасибо большое, но давайте поработаем. Я хочу сегодня успеть посетить двух учениц.
Про учеников я придумала только что, но мысленно пообещала себе действительно сходить к Миле Вороновой и Наташе Звягиной. Впрочем, проблем в семьях Вороновых и Звягиных не ожидалось, девочки были умненькие, ухоженные и весёлые.
— Вот, пожалуйста, располагайтесь. Садитесь на моё место, так вам будет удобнее.
Чем настойчивее Роман Романович хлопотал вокруг меня, тем больше мне хотелось вырваться из кабинета на волю. Если бы кроме нас в кабинете оказался ещё кто-то, я чувствовала бы себя свободнее. С надеждой прислушиваясь к шагам за дверью, я положила перед собой листок Почётной грамоты. Наверху по центру листа был напечатан портрет Сталина в полукружье венка из колосьев, под ним располагалась надпись «Почётная грамота», а дальше шли пустые строки, подлежащие заполнению.
Роман Романович встал позади меня и положил руку на спинку стула.
— Первую грамоту мы напишем нашему завхозу Николаю Калистратовичу. Как думаете, Антонина?
Он вторично, словно бы невзначай, недоговорил моё отчество.
Я упрямо подсказала:
— Антонина Сергеевна.
Директор упорно нависал над моей головой, диктуя данные, которые я старательно вписывала в грамоты, но его присутствие придавливало мою руку с пером каменной скованностью движений. Вместо изящной лёгкости штриха мне приходилось сосредоточиться на том, чтобы не посадить кляксу. Я вспотела от напряжения, как мои первоклашки во время контрольной. Минуты падали мне шею тяжёлыми горячими каплями, а всего несколько грамот казались нескончаемыми фолиантами средневековых писцов. Честное слово, лучше бы я отстояла десять часов на перекрёстке в метель и гололёд, чем подписала десяток похвальных листов со знакомыми фамилиями.
Домой я приползла выжатая как лимон и наверняка такая же жёлтая. Кот Пионер сидел на табуретке в прихожей, и по его довольной морде я с холодком ужаса поняла, что на коврике перед дверью мне приготовлен очередной сюрприз.
Мне снилась дверь. Огромная, тёмная, окованная по периметру полосами почерневшего железа. Дверь располагалась в нише незнакомого дома из серого тёсаного камня, без единого окна. С козырька крыши свисала длинная цепь, и когда ветер раскачивал её, звенья со скрипом лязгали друг о друга.
Я не заметила, день или ночь, настолько сизый мрак заполнял собой пространство вокруг. Я знала, что должна во что бы то ни стало распахнуть дверь, потому что там, внутри, моя дорогая бабуся. Напрягая силы, я тянула за медное кольцо, вделанное вместо ручки, упиралась ногами и рвала на себя, но дверь стояла неприступным монолитом. Со слезами и криками я царапала дверь пальцами и озиралась в поисках ножа, палки или ещё чего- то подсобного. Чувствуя, как от бесполезных усилий ломаются ногти, я жалела, что не привезла с фронта парочку гранат для направленного подрыва препятствия.
— Бабуся! Подожди, я скоро.
Я размазала по щекам слёзы и проснулась, успев уловить принесённый ветром ответ бабуси:
— Я молюсь о тебе, Тоша, помяни меня.
— Бабуся, я помню о тебе всегда, а поминать не умею, прости меня!
— Помяни…
Стук сердца грохотом отдавался в ушах. Рывком поднявшись с кровати, я услышала деликатный стук в дверь и обеспокоенный голос Олега Игнатьевича:
— Антонина Сергеевна, вам не нужна помощь?
Наверное, я кричала во сне. Чтобы прийти в себя, я крепко растёрла уши ладонями — отличный метод, который мы применяли на войне, если приходилось работать сутками без перерыва. Стук в дверь повторился:
— Антонина Сергеевна, это я, ваш сосед.
— Спасибо за заботу, Олег Игнатьевич, — хрипло отозвалась я. — Всего лишь дурной сон.
Будильник показывал шестой час утра. Пора вставать. Пока разожгу примус, пока закипит чайник, пока умоюсь и оденусь, сон выветрится без остатка. Я вспомнила, что вчера забыла перешить воротничок на платье. У меня было два воротничка на одно платье, а если раздобуду толстые белые нитки и крючок, то свяжу себе третий. Вдев нитку в иголку, я пристроилась под лампой, одиноко свисавшей со шнура на потолке. Абажуром и настольной лампой я пока не обзавелась, хотя настольная лампа числилась в ближайших планах. За несколько послевоенных месяцев моя комната немножко обросла вещами, включавшими в себя комод (мне он достался по дешёвке из соседнего дома), коврик перед дверью, большой плетёный сундук, куда я складывала постельное бельё, и горшок с фикусом — его принесла Рая. На комод со шкафа переехала немецкая фарфоровая пастушка и, судя по выражению лица, удивлялась, в какую нищету попала из богатого бюргерского дома.
Стежок за стежком, а я заново прокручивала в уме ленту странного сна с запертой дверью. Он казался настолько реальным, что я проверила, не ободрала ли ногти о железную обивку. Бабуся просила меня её помянуть. Я опустила шитьё на колени и задумалась. Обычно поминовение заключалось в стопке водки, покрытой кусочком хлебца и посыпанной на могилку крупе для птичек. Но бабуся и мама похоронены где-то в общем рве, кроме того, я была совершенно уверена, что бабуся хотела от меня нечто иное, тем более, что ни она, ни я водку не пили.
Конец ноября в Ленинграде выдался сырой и тёмный. Пока я добиралась до работы, ветер несколько раз предпринимал злую попытку толкнуть меня в спину. Но я стойко держалась на ногах, обходя осенние лужи.
Плохая погода — не повод для уныния, особенно если вспомнить, что из булочной тянет свежим хлебом (пускай по карточкам, но он есть в достаточном количестве), в водопровод поступает вода, а в домах горит свет. Тем, кто пережил войну и блокаду, грех жаловаться на временные трудности, надо работать, поднимать страну и смотреть в будущее с оптимизмом.