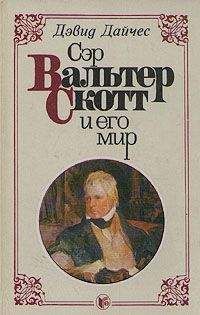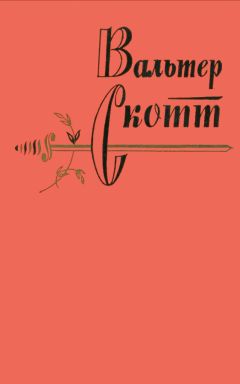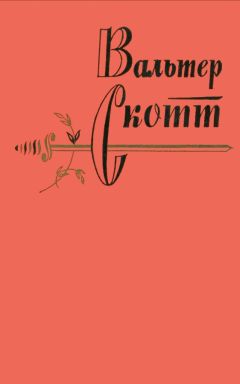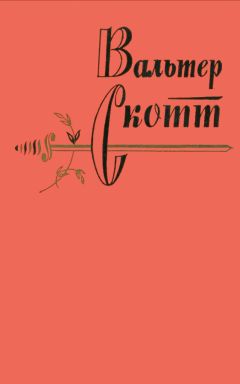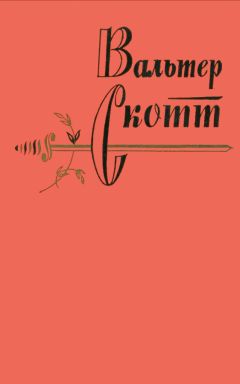Фонтан - Хэй Дэвид Скотт
Попрощаться.
Каким они тебя запомнят?
Он был настоящим профессионалом.
Я помню ту его фотографию. Я получил ее накануне дедлайна.
Он надежный.
Профессиональный.
Безотказный.
С верным глазом.
Клевый парень.
О да, и очень профессиональный.
Профи.
Художник. Он выиграл конкурс.
Однажды.
В колледже.
— Эту ложь ты хочешь оставить после себя?
Уэйлон качает головой. И обретает спокойствие. Как легко уходить. Его история закончится здесь. Он смотрит в сторону заката, на темнеющее сумеречное небо. Сегодня хороший день, чтобы умереть. Он покончит с собой сегодня ночью.
— Я покончу с собой сегодня ночью, — произносит фотограф.
— Прекрасно, — отвечает белка.
— Но ты знаешь, какую фотографию они выставят? — говорит Уэйлон. — Из моего личного дела. Таким они меня запомнят.
— Это отстойный снимок, — замечает белка. — Ты с тех пор сильно похудел.
— Мне нужно сделать автопортрет. Первое фото безо всякого притворства. Мою последнюю работу. Да, на закате. В «золотой час». Или со вспышкой, чтобы получился высококонтрастный черно-белый снимок, как будто снятый во время грозы. Вот что будет моим завещанием. А не эта злополучная пленка.
Он бросает кассету в огонь. Она отскакивает аг раскаленных углей и приземляется на дальней стороне кострища.
— Да, это была бы хорошая смерть. Прекрасная смерть.
Хорошая фотография. Прекрасная фотография. А предстоящее самоубийство только усилит драматизм, обострит мастерство.
Мое завещание живым. Завещание искусству.
Моя жертва.
Да.
Белка кивает:
— Да.
Умру в своих сапогах.
Уэйлон закутывается в пыльник, кладет голову на плоский камень и тонет в спускающейся темноте, но тут у него под ухом шипит сгоревшая фасоль, словно закончившаяся старая пластинка на проигрывателе его родителей.
Уэйлон просыпается с первыми лучами солнца. В голове у него стучит, но едва слышно, словно гроза в соседнем округе. Он смотрит на горизонт, где чернота постепенно переходит в синеву. А синева скоро сменится розово-желтыми оттенками.
Хороший день, чтобы умереть.
Сначала он хочет отправиться в ту маленькую закусочную и купить себе жратвы… э-э… еды. (Давайте без простонародных выражений.) И бутылку. Чтобы отпраздновать свое освобождение.
Сегодня та самая ночь.
Где-то далеко гремит гром. Может, ему повезет и будет дождь. Это даст хороший эффект, если будет еще светло. Мысленно он уже видит образ, на сей раз четкий. Не то что в другие разы, когда он подражал чужим работам. Когда снимал пленку за пленкой и рылся в негативах в поисках удачного снимка. И Уэйлону везло больше, чем большинству. До МСИ.
Нет, этот снимок будет особенным. Этот последний снимок будет только его, уэйлоновским. По нему его и запомнят. Он его обессмертит.
Хотя придется оставлять инструкции.
Как проявлять пленку. Где проявлять. Не открывать камеру. Но если его найдет полиция, пленка будет доказательством. Но не преступления. Кому будет принадлежать фотография? Должен ли он завещать ее себе самому? Газете? Эмме? Кувалде? Дакворту? Есть ли поблизости почта?
Он должен позаботиться о том, чтобы пленку нашли. А вдруг копы увидят ее и выбросят? Вдруг останутся только снимки полицейского фотографа с места происшествия? Засвеченные утилитарные фото крупным планом. И фото вскрытия.
Нет.
Нет.
Нет!
Придется оставить предсмертную записку с инструкциями. Но записка будет обнародована. Все будет выглядеть так, словно он пытался стать великим, но великим не был. Уэйлон хочет, чтобы его жертва была зачтена, но не желает, чтобы это вошло в историю.
Записка будет обнародована.
Нет, если ты попросишь этого не делать. Типа, последняя просьба. Белка возвращается. К ее мордочке прилипли фасолинки. Или найдешь свидетеля.
Да, свидетеля. Чтобы отдать ему пленку, фотоаппарат. Гарантировать, что ее проявят и о ней позаботятся. Нужен душеприказчик. Ассистент. Исполнитель.
В животе урчит.
— Я голодная, — сообщает белка.
Уэйлон смотрит вниз и видит свои ноги в носках. Сапоги исчезли. Как в воду канули. А вокруг ни следов, ни отпечатков подошв, ни окурков. Ни других стоянок. Словно к нему на привал явился сам Иисус и украл его сапоги.
— Пиццу с двойным сыром, сосиску, чашку кофе с двойными сливками, — говорит Уэйлон. И закидывает ноги в изодранных носках на соседний диванчик. — И суп дня.
— Пиццу с двойным сыром, сосиску, чашку кофе с двойными сливками, — повторяет она. У нее медовый говор южанки. — И суп. — На бейджике имя: «Труди». — Для ковбоя за седьмым столиком.
Она опускает взгляд и смотрит на его ноги. Эта официантка.
— Похоже, вам не помешают новые носки. Уэйлон пожимает плечами:
— Я проснулся, а сапог нет. Мой пикап заглох в четырех милях отсюда. Они, мои носки, продержались полпути.
— Кажется, у нас в музыкальном автомате есть такая песня. У вас ведь нет собаки, которая утащила сапоги, верно?
— Там вроде была белка, но нет. У меня только сапоги. И пикап.
Официантка подмигивает Уэйлону:
— Сейчас приду, ковбой за седьмым.
Уэйлон опорожняет чашку. И снова наполняет. Побольше сливок. И сахара. И лед.
Официантка вскоре появляется снова. Держа одну руку за спиной.
— Я принесу вам новый кофейник. — Она смотрит в окно. На улице темнеет из-за надвигающейся грозы. — И если вы захотите задержаться тут до конца моей смены, я смогу подбросить вас до вашего пикапа, ковбой.
— Ага, ладно.
— Вот. За счет заведения.
Она что-то бросает Уэйлону. Прямо в лицо. Официантка разворачивается и снова уходит на кухню.
Это носки.
Божественно пушистые толстые белые хлопковые носки.
У нее маленькая машинка, иностранная модель отечественного производства. Маленький красный фургончик с плавным ходом. Но он немного тесноват.
Уэйлон ерзает на сиденье: он столько времени провел за рулем пикапа, что теперь ему кажется, что днище скребет по дорожному полотну.
— Никогда раньше не ездил в клоунских машинках, — говорит он.
Девушка смотрит на дорогу.
— Не трогай мою клоунскую машинку.
— Спасибо за носки, — на всякий случай благодарит Уэйлон.
— Я всегда держу в своем шкафчике запасную пару. Когда двойная смена выдастся, когда кофе пролью. Использую их месяц, потом выбрасываю и покупаю новые. Закупаюсь оптом. Одно из немногих роскошеств в моей жизни. На некоторых вещах не стоит экономить.
— Точно.
— Первая — это туалетная бумага. Я покупаю мягкую двуслойную. Вторая — кофе. Если уж пить, так хороший. Третья — мои ноги. Эти кроссовки до неприличия дорогие, но я провожу в них большую часть дня, а мне нужно, чтобы мои ножки были счастливы. Четвертая — моя кровать. В Париже я два года спала на футоне. Как там говорят, прошла школу Голье {33}. Это я хвастаюсь.
— Я не знаю, кто такой Голье.
— Говорю же, хвастаюсь. Но я испортила себе спину. Теперь у меня самый инновационный матрас с эффектом памяти. Стоит целое состояние. Но если подумать… Как ты проводишь большую часть времени? На ногах, если ты официантка, и на спине…
Рот Уэйлона растягивается в кривой улыбке. Дырка в щеке ноет.
— Я об этом позаботилась. О спине во время сна. Который, по словам какого-то недоумка, должен длиться восемь часов в сутки. Ему, наверно, неплохо платили, а я несу какую-то хрень. — Девушка включает дворники, чтобы очистить лобовое стекло от налипших мошек. Это не помогает. — Что у тебя со щекой?
— Шальной карандаш.
— Что за жизнь…
— Мне нравится тембр твоего голоса, Труди. Девушка улыбается, слегка озадаченная:
— Прости?
— Тембр. У тебя уникальный тембр. Как у крутой певицы. Он мне нравится. Уникальный.