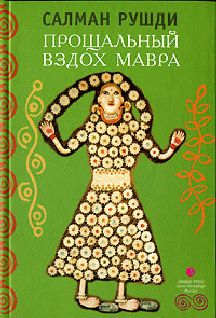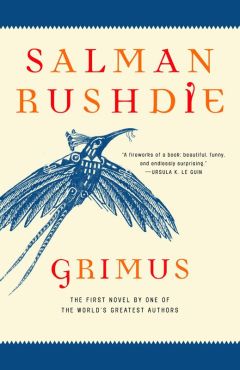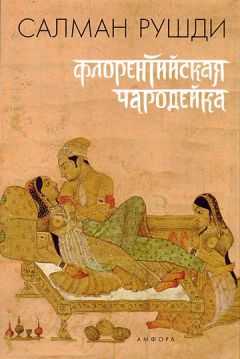Салман Рушди - Прощальный вздох мавра
Не помню, когда я в первый раз услышал семейную историю, которой я обязан своим прозвищем, а моя мать -темой для своих знаменитых «мавров», цикла картин, получившего триумфальное завершение в неоконченном и впоследствии украденном шедевре «Прощальный вздох мавра». Я словно знал ее всю жизнь, эту пылко-мрачную сагу, которая, добавлю, дала господину Васко Миранде тему для одной его ранней работы; но, несмотря на изначальное знание, я серьезно сомневаюсь в буквальной достоверности истории: уж слишком она прихотлива, уж слишком отдает перченой бомбейской байкой, уж слишком отчаянно озирается вспять в поисках опоры, подтверждения… Я думаю – и другие со мной соглашались, – что можно дать более простые объяснения и сделке между Авраамом Зогойби и его матерью, и, в особенности, случившейся якобы находке в старинном ларце под алтарем; ниже я приведу одну такую альтернативную версию. Но сейчас я излагаю одобренную и отшлифованную семейную легенду, которая, будучи весьма важной частью созданного моими родителями образа самих себя, а также существенным элементом истории современного индийского искусства, хотя бы по этим причинам существенна и весома, чего я не собираюсь оспаривать.
Мы достигли ключевого момента нашей истории. Вернемся ненадолго к юному Аврааму, стоящему на четвереньках, судорожно осматривающему пол синагоги в поисках отца, который только что бросил его во второй раз, зовущему его надтреснутым голосом, то соловьиным, то вороньим; и, наконец, нарушая запрет, он впервые в жизни осмелился приподнять голубую ткань с золотой каймой, укрывающую высокий алтарь… Соломона Кастиля там не было; вместо него фонарик подростка осветил старый сундучок, помеченный буквой "З", с дешевым висячим замком, который очень скоро был открыт, – ведь школьники обладают многими талантами, которые они во взрослой жизни утрачивают наряду со всей вызубренной на уроках белибердой. Вот так, сокрушаясь из-за беглого отца, он неожиданно раскрыл секрет матери.
Хотите знать, что было в сундучке? Единственное сокровище, достойное этого имени: прошлое плюс будущее. Еще, впрочем, изумруды.
x x x
И вот настал решительный миг, когда взрослый Авраам Зогойби с криком Я ей покажу «Фитц»! ворвался в синагогу и вытащил ларец из потайного места. Мать, ковылявшая вслед, поняла, что тайное становится явным, и почувствовала слабость в ногах. С глухим стуком она осела на голубые плитки, а Авраам тем временем откинул крышку и извлек серебряный кинжал, который тут же засунул за пояс; потом, часто и судорожно дыша, Флори увидела, как он достает и возлагает себе на голову ветхую старинную корону.
Нет, не золотой венец девятнадцатого века, дарованный траванкурским махараджей, а нечто гораздо более древнее – так, во всяком случае, мне рассказывали. Темно-зеленый тюрбан из ткани, ставшей от возраста почти иллюзорной, – столь непрочной, что казалось, будто проникающий в синагогу оранжевый свет заката для нее слишком груб, будто она вот-вот истлеет под огненным взором Флори Зогойби…
И с этого невообразимого тюрбана, гласила семейная легенда, свисали потемневшие от времени цепи из чистого золота, а на цепях красовались такие крупные и такие зеленые изумруды, что они казались искусственными. Эта корона четыре с половиной столетия назад упала с головы последнего властителя аль-Андалуса; она – не что иное, как корона Гранады, которую носил Абу Абдалла, последний из Насридов, известный под именем Боабдил.
– Но как она туда попала? – спрашивал я отца. Действительно, как? Этот бесценный головной убор мавританских монархов – как он оказался в сундуке у беззубой старухи, чтобы потом увенчать голову Авраама, еврея-отступника, моего будущего отца?
– Это, – отвечал отец, – было сокровище срамоты.
Не буду пока что оспаривать его версию событий. Итак, когда Авраам Зогойби подростком в первый раз обнаружил спрятанную корону и кинжал, он положил драгоценные вещи обратно в тайник, тщательно запер замок и всю ночь, весь следующий день трясся от страха перед материнским гневом. Но когда стало ясно, что его проступок не возымел последствий, в нем опять взыграло любопытство, и он снова выдвинул сундучок и отпер замок. На этот раз рядом с тюрбаном он нашел завернутую в мешковину маленькую рукописную книжицу в кожаном переплете с грубо сшитыми пергаментными страницами. Испанского языка, на котором она была написана, юный Авраам не знал, но он скопировал оттуда несколько имен и в течение последующих лет понял их смысл – главным образом благодаря тому, что задавал якобы невинные вопросы брюзгливому и нелюдимому старому свечному фабриканту Моше Когену, который в то время был признанным главой общины и хранителем ее преданий. Старый Коген был настолько потрясен тем, что молодой человек проявляет интерес к. старине, что у него развязался язык и он пустился в рассказы о былом; сидевший у его ног красивый юноша жадно ловил каждое слово.
Так Авраам узнал, что в январе 1492 года под удивленным и презрительным взором Христофора Колумба гранадский султан Боабдил отдал ключи от крепости-дворца Альгамбры, последнего и величайшего из мавританских укреплений, всепобеждающим католическим монархам Фердинанду и Изабелле, отказавшись от власти без боя. Он отправился в изгнание с матерью и слугами, подведя черту под столетиями существования мавританской Испании; и, придержав коня на Слезном холме, он оглянулся, чтобы бросить последний взгляд на утраченное, на дворец и плодородные долины, на угасающее великолепие аль-Андалуса… взлянув на все это, султан вздохнул и горько заплакал, но Айша Добродетельная, его неукротимая мать, жестоко высмеяла сына. Вынужденный ранее преклонить колени перед всевластной королевой Изабеллой, Боабдил теперь был унижен безвластной, но по-прежнему грозной вдовой. Плачь же, как женщина, над тем, чего ты не умел защитить, как мужчина, – презрительно сказала она, имея в виду, конечно, другое. Что в отличие от этого хнычущего мужчины она, женщина, будь у нее возможность, встала бы за свое достояние насмерть. Она была бы достойной противницей королевы Изабеллы, которой повезло, что пришлось иметь дело с несчастным плаксой Боабдилом…
Слушая свечного фабриканта, Авраам, примостившийся на бухте каната, вдруг почувствовал горе низложенного Боабдила, почувствовал как свое собственное. Воздух вылетел из его груди с присвистом, а последующий вдох был судорожным. Предвестник астмы (опять астма! Удивительно, что я вообще способен дышать!) стал символом, знаком связи между людьми через пропасть веков – так, во всяком случае, думал взрослеющий Авраам, ощущая, как болезнь в нем набирает силу. Эти свистящие вздохи не только мои, но и его тоже. В моих глазах вскипает его древнее горе. Боабдил, я тоже сын твоей матери.