Свен Дельбланк - Гуннар Эммануэль
— «И можно спросить себя, не вернет ли короля этот жестокий настрой в объятия церкви…»
— Не так быстро!
— «И не приведет ли к примирению с Ее Величеством», Е и В — прописными… Черт, вам чего здесь нужно?
— Это тоже писать?
— Нет, нет, я говорю с этим типом. Вы кто?
— Альфонс де Рубан, секретарь военного министерства. Я ищу…
— Если у вас есть копии секретных документов, положите их вон там, деньги завтра. «Архиепископ Парижский и аббат Демаре, духовник короля…»
— Это надо переписать?
— Пишите то, что я диктую, и не спорьте со мной! Но что вам все-таки надо?
— Завтрак, повысить почасовую плату!
— И читайте пояснее, черт подери!
— Да нет же, это я с тем типом говорю. У вас есть какие-нибудь новости?
— Нет…
— Тогда какого дьявола вы здесь? «Покушавшийся…»
— Я должен встретиться с господином де Гриммом, мы договорились…
— Так бы и сказали, а то стоите столбом. Бебе, передай старику! Господин Альфонс…?
— Де Рубан.
— Пришел господин Альфонс де Рубан. «Покушавшийся уже был подвергнут мучительному допросу…»
— Мучительному допросу…
— «Перед процессом, который, очевидно…»
— Завтрак!
Бебе, замызганный парижский оборванец с золотушной сыпью вокруг губ, постучал в дверь в глубине комнаты и пронзительно крикнул:
— Посетитель к месье де Гримму!
Появился Гримм, в испачканных чернилами нарукавниках, коричневом бархатном сюртуке и крошками табака на жабо, в остальном же, несмотря на свой педантичный вид, выглядел он типичным крестьянином. Шум в редакции заглох, установилась усердная, подхалимская тишина. Десять гусиных перьев скрипели по бумаге…
— «Перед процессом, который, очевидно, выявит иезуитский заговор».
— Послушайте-ка! Вы что, только до этого места дошли?
— Да, месье де Гримм, они весь день скандалят, особенно Эстас…
— Неважно, кто скандалит! И это называется журналисты! Перерыв на завтрак сокращается до десяти минут. Приступайте!
Переписчики забормотали, но никто не осмелился протестовать вслух. Расположившись вдоль стен, они принялись грызть свои черствые горбушки хлеба, оголодавшие, с ввалившимися глазами рабы-гребцы на галере Будущего. Эстас мог похвастаться кусочком сыра, а у Бебе, как обычно, не было ничего. Пронзительным голосом он начал клянчить у всех подряд.
Альфонса де Рубана пригласили в отдельный кабинет господина де Гримма. Книги, бумаги, письма от всех европейских князей… На полу лежали штабеля фолиантов энциклопедии, а в одном углу стоял гипсовый бюст Минервы с водруженной на белый шлем красной фригийской шапочкой.
Альфонс пробормотал какие-то любезности, и Гримм, сидя в кресле, поклонился в ответ.
— Ваш начальник здоров?
— Граф Д’Аржансон просил передать привет человеку, который властвует над общественным мнением Европы…
— Вы уже дипломат, господин де Рубан, и я предвижу ваше великое будущее, вижу его по звездам… Ну-с, послушаем! Что это за «сверхсекретная» новость, которая по причине чьей-то роковой «нескромности» должна просочиться наружу? Я к вашим услугам, если только это не повредит моей собственной партии.
— Не-т, не сейчас…
— Разве вы посланы не Д’Аржансоном?
— Я скорее по личному делу…
Гримм, выпятив свои вишневые губы, взглянул на часы. Ничего официального, ничего, что бы пригодилось для Дела, времени в обрез… Его дружелюбный голос с немецким акцентом стал резче.
— И чем я могу вам служить?
— Господин де Гримм, ваша газета два раза в месяц попадает во все европейские дворы, вы человек влиятельный, вы имеет возможность нашептывать в уши суверенов, вы управляете общественным мнением, у вас есть власть…
— То небольшое влияние, которое я имею, должно использовать разумно, ради блага просвещения… Но если я что-нибудь могу сделать, в разумных пределах…
Альфонс сморщился от холодного тона, но взял себя в руки и выдавил из себя еще несколько любезностей в адрес великого публициста-радикала. Гримм недовольно выпятил свои вишневые губы, поразительно не подходившие к его дородному немецкому лицу. Он не сделал ни малейшей попытки ответить тем же. Личные дела? Подобное не представляет политического интереса…
Это бесполезно, лучше уж рассказать правду… И Альфонс рассказал, спокойно, насколько был в силах… Лизетт!
— Стало быть, Его Величество был так добр, что выбрал сам?
— Да, добр…
Лизетт, Лизетт!
— А ее не…? Ну, вы знаете!
— Боюсь, я не понимаю.
— Ее не поместили в Птичью западню?
— В королевские покои? Нет, нет, слава Богу, помешало покушение…
— Курьезно! Где она сейчас?
— В Оленьем парке.
— Одна?
— Да.
— Так-так. Вас можно поздравить?
— С чем?
— Ну, подумайте сами. Король уже поправился, религиозный кризис, похоже, долго не протянется, и если уж она единоличная владычица сераля… Ваше счастье обеспечено, молодой человек!
— Мое счастье?
— Ну конечно! Маркизу ей вряд ли удастся выбить из седла, но продвижение по службе, пенсион, баронство — это самое малое, на что вы можете рассчитывать…
— Но мне нужна только Лизетт! Мне одному!
— Курьезно…
Альфонс, отбросив всякую осторожность, поведал о плане побега, мечтах о хижине в Швейцарии, спокойной и счастливой жизни вдали от двора, города, политики и истории. Помогите мне, господин де Гримм! Если бы мы с Лизетт могли убежать, я прошу лишь, чтобы полиция смотрела сквозь пальцы, король ее скоро забудет, я лишь хочу прожить жизнь в покое, в стороне, вдали…
— Вы просите не так уж мало, господин де Рубан. Во-первых, удалиться от света вот так совсем непросто, и за вашу идиллию в Швейцарии должен будет платить кто-то другой…
— Как вы оплачиваете те десять минут, когда они там грызут свой черствый хлеб!
Перерыв на завтрак закончился, и из редакции вновь послышался шум и гвалт. Гримм улыбнулся во весь свой вишневый рот.
— Я — суровый хозяин, это верно. Ну и что с того? Вы сентиментальны, господин де Рубан. Мои переписчики тоже должны приносить маленькие жертвы ради будущего просвещения…
— И эта вечная надежда на «будущее» служит закуской для голодных…
— Вы принадлежите к молодому и сердобольному классу общества, господин де Рубан, и совершенно заблудились в сентиментальных иллюзиях. Что же до малышки Лизетт, я могу сказать только одно — воспользуйтесь случаем! Подоите короля как следует, заработайте, сколько сумеете на этом деле, а потом удалитесь на покой с использованной Лизетт…
— Какая мерзость…
— Ну-ну, не будьте таким закостенелым эгоистом! Все, что вы заработаете сверх, можно будет, если захотите, вложить в дело просвещения и прогресса. Если бы вы и только вы сумели ускользнуть от истории и жестокой действительности, что бы выиграли все эти несчастные людские массы? Таким образом ради светлого будущего не трудятся… Что еще?
Бебе забарабанил в дверь.
— Шевалье де Сенгаль!
В дверях возникла жизнерадостная, с прищуренными карими глазами физиономия Казановы.
— Я помешал господам философам?
— Вовсе нет! Входите! Что я слышу, вы уже знакомы с господином де Рубаном… В день покушения? Вот это я называю совпадением… Ладно, что новенького?
Казанова, откинувшись на спинку кресла, начал обмахиваться носовым платком, от которого исходил запах мускуса. Он обожал быть в центре внимания. Гримм достал грифель и блокнот, чтобы записывать.
— Все неопределенно, — произнес наконец авантюрист с довольной улыбкой. — Кризиса можно ожидать в любой момент.
— А маркиза?
— Мадам де Помпадур упаковала чемоданы, но пока ожидает приказа об отъезде. Демаре и Его Высокопреосвященство исступленно работают над религиозным обращением: маркизу в ссылку, король примиряется с королевой…
— Бедная женщина!
— Публичное покаяние, причастие в присутствии всего двора, полная победа клерикалов…
— А Д’Аржансон? А Ришелье?
— Пока делают хорошую мину и каркают вместе с воронами. Но они, естественно, надеются, что сперва исчезнет маркиза — с глаз, из памяти — так, чтобы потом, когда король вернется к более нормальной жизни, он бы попал под влияние их собственной малышки-протеже, как ее там зовут…
— Лизетт?
— Точно. Но вам, кажется, плохо, господин де Рубан? Не хотите ли воспользоваться моей нюхательной солью?
— Нет-нет, спасибо… Только один вопрос: все эти красивые интриги — это действительно единственный результат покушения?
— А что еще могло быть? Понятия не имею, что было в мыслях у Дамьена{44}, судя по всему, у него не было плана, ни идей, ни партии…
— Ни партии… Анархист?
— Очевидно. Все его речи — лишь благонамеренная болтовня о добродетели и набожности, о возвращении короля к его обязанностям по отношению к Богу и народу… Бестолочь!


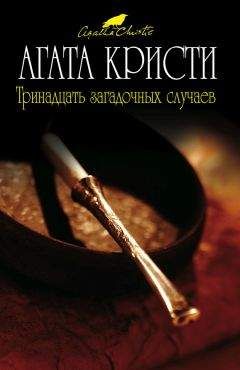
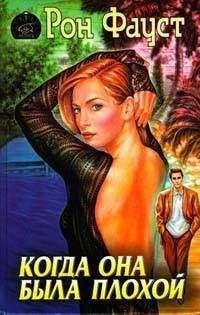
![Мила Бонди - Броситься в объятия мужчины [СИ]](/uploads/posts/books/5921/5921.jpg)