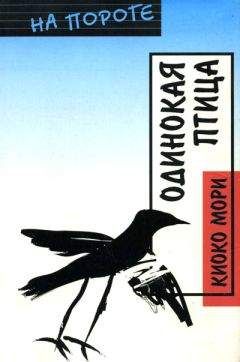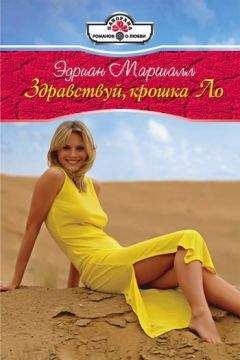Рю Муроками - Киоко
Когда мы уезжали из Нью-Йорка, или, возможно, Вирджинии, или Нью-Джерси, уж не помню, это было совсем недавно, но я уже забыл, где это было, Елена спросила меня:
— Хосе, где ты взял эти колокольчики? Такие продают только в Японии, и похожие я подарила тебе, когда была маленькой.
Я ответил, что никогда не бывал в Японии.
— Думаю, мне подарила их одна поклонница, ты ошибаешься, Елена. Ты так полагаешь, потому что ты из Японии, но, знаешь, мои поклонники абсолютно crazy, они дарят мне что угодно, ты не представляешь. Ну, цветы, шампанское — это нормально, но однажды, открыв коробку, я обнаружил там щенка. Они также дарят мне всякие безделушки, и однажды я даже получил шелковое белье.
Елена промолчала. Больше она не говорила о колокольчиках.
С тех пор как я все чаще стал погружаться в коматозное состояние, я много раз думал о нашем разговоре про колокольчики.
Как пейзажи, тонущие за горизонтом, так и мои мысли становятся расплывчатыми, когда сознание начинает путаться. И единственная вещь, которая может спасти меня от ужасного чувства страха, это, представьте, какое-нибудь конкретное, отчетливое воспоминание.
Например, воспоминание о Елене, бегущей вместо меня за желтым мячом. Ощущение горячего песка, сыплющегося между ладонями на пустынном пляже Майами-Бич в самый разгар лета, причудливо изогнутая линия берега в Гаване, мужчины на Манхэттене, пот без запаха, струящийся по моему телу в Skyline Dance Studio.[43]
Каждый раз, когда я чувствую приближение комы, меня охватывает непреодолимое желание, почти необходимость, уточнить, оживить еще больше эти воспоминания; так драгоценный камень нужно отполировать, чтобы он заиграл еще больше всеми гранями.
Именно так, полируя свои воспоминания, я вспомнил, что шелковое белье получил в подарок не я, а Мик Джаггер,[44] а история со щенком случилась с Джином Келли.[45]
Чтобы выжить, иллюзии и ложь необходимы, это понятно. Но вот нужны ли они, чтобы умереть?
Никто не знает ответа на этот вопрос. Те, кто знал, уже умерли.
Елена замолчала, а я, когда мое сознание начинает путаться еще больше, я разговариваю с Серхио. Я представляю себе его призрак и разговариваю с ним: «Серхио, что это было, только что? Знаешь, этот городок странно напоминает испанский, эти белые дома, словно грезишь наяву». Я бы очень хотел попросить Серхио рассказать мне о Мануэле Пюиге,[46] который бежал из Аргентины, нахлебался горя во многих городах мира, хлебнул одиночества даже в Мексике. Да, так вот, он вспоминает дом в маленьком городке, стоящем посреди пампасов, словно одинокий остров в самом центре земли: это город, где он родился.
Он прислушивается: кто-то разговаривает у фонтана в патио:
это мать и тетя, воспитавшие его, они болтают, сидя на железной скамеечке в тени деревьев. Пюиг в точности помнит этот разговор, тщательно отмечает все подробности: «Ты отлично знаешь, Серхио, что это был момент рождения романиста Мануэля Пюига, о котором ты мне рассказывал. Я бессчетное количество раз просил тебя пересказать эту историю, я и сам не понимал, почему мне так нравился этот пассаж, но теперь я знаю, Серхио: это связано со смертью; я теперь гораздо ближе к смерти, чем когда я был рядом с тобой. Я хотел бы верить в воскресение, Серхио. Думаю, ты можешь понять, это никак не связано с потусторонним миром и теорией реинкарнации, нет. это что-то вроде всплывшего в памяти разговора двух женщин в патио на родине Пюига, да это и не может быть ничем другим. Мне немного грустно, но, видишь ли, теперь у меня не возникает даже мысли о сексе. Помнишь, я часто разговаривал с тобой о юношах с загорелой кожей, а теперь у меня не осталось ни малейшего интереса к их гибким мускулам. Но как же назывался этот город? Ну, так вот, это случилось близ очень старинного городка, именуемого Саванна, там были невозможно высокие деревья, выше мангровых деревьев в Гаване, меня окружила толпа людей, как будто меня им демонстрировали, это были суровые нарядные старики и толстые чернокожие служанки. Они встали вокруг меня, и в их руках было множество абажуров, чтобы сделать подарок маме. Это было как во сне, но, когда я проснулся, карнавал абажуров оставался на месте. И это еще не все, Серхио, на самом деле это только начало. Все участники карнавала ушли, а я долго сидел, прижав к себе абажур. Потом я услышал музыку, доносившуюся из большого белого дома, это была мелодия мамбы. В Гаване, да и Майами тоже, мама любила устраивать грандиозные праздники, все собирались, пахло жареным мясом, рисом и фасолью, я видел смеющиеся лица, с хлопком вылетали пробки из бутылок с ромом, и потом каждый раз звучала музыка: ча-ча-ча, румба; это вызвало во мне такую ностальгию, что я вышел из микроавтобуса. Там был громадный дом с огромным садом, усаженным цветами. К дому вела тропинка, окруженная цветниками и кустами, я слышал, как над моей головой щебечут птицы, это был нежный звук, словно посвистывание в ушах. Вокруг стояло невообразимое количество столетних, а то и тысячелетних деревьев, вдали виднелись бескрайние леса и болота.
Видимо, из-за жары и влажности пейзаж был подернут блеклой зеленоватой дымкой. Я вспотел, но мне не было неприятно, у меня создалось впечатление, что я вернулся в родные края, сознание было нечетким, и мне казалось, что там, откуда доносилось эхо мамбы, меня ждет мама. Подойдя поближе, я понял, что это не мама танцует мамбу, а те старики американцы, которые приносили мне абажуры. Я чувствовал, что если они меня обнаружат, то у меня будут неприятности. Поэтому я спрятался в кустах и стал наблюдать их ужасный танец, они так плохо танцевали мамбу, просто отвратительно, до дрожи. Звучала мелодия в исполнении Бенни Морелл, гордости кубинцев, но их танец был тошнотворным. Когда ряд чудовищно страшных стариков расступился, я чуть не вскрикнул. Серхио, Серхио, слышишь?
Там была эта японка, сначала я ее не увидел, старики ее заслоняли. Я не мог глазам своим поверить, она танцевала мамбу, как настоящая кубинка, ее плечи двигались мягко, а руки образовали грациозную изогнутую линию, бедра красиво покачивались, ноги ступали уверенно, в нужном ритме, тело передвигалось легко, как ветерок, свободный от земного притяжения. Я невольно заулыбался и сказал: «Да, вот так, немного сгибаешь колени, с задержкой в ритме, поворачиваешься, ноги наперекрест, так, и подпрыгиваешь, как мячик, ты не должна чувствовать тяжести, а должна представить себя подпрыгивающим мячиком, вот так, очень хорошо…» В то время, как я бормотал это про себя, я сначала не обратил на это внимания, но потом моя улыбка испарилась, и другие слова всплыли в голове, и. когда я произнес их вслух, мое тело покрылось гусиной кожей.
Да кто же эта девушка?
Кто эта девушка?
Кто эта девушка?
Кто эта девушка?
Кто эта девушка?
Какое-то воспоминание медленно поднималось от ног к голове, проходя через все мои внутренности, и я немного отошел от того места, где стоял, стараясь убежать. Некая сила во мне противилась тому, чтобы воспоминание всплыло на поверхность, оно уже почти проявилось, почти, и если оно осталось до сих пор запрятанным где-то, значит, это не так важно для меня. Но разве оно не из той же оперы, что разговор женщин в патио, подслушанный Пюигом? Серхио, разве это не что-то подобное, не надежда на воскресение?»
— Это наша последняя остановка, — сказала Елена.
Солнце садилось над Флоридой. Елена ввела мне в вену иглу.
— Через четыре часа мы будем в Майами!
Ее зовут не Елена. Настоящая Елена всплыла в моей памяти совершенно четко, после того как я отполировал свои воспоминания. Эта японка — не Елена. У них, однако, есть нечто общее: обе хорошо танцуют.
— Пойду куплю воды и бананов. Если захочешь попить, можешь взять маленькую бутылку из моей сумки.
— Да, я знаю, ты мне это уже говорила.
Я повторяю вопрос, как заклинание: кто эта девушка?
— Никуда не уходи отсюда!
Куда, интересно, я могу уйти, я же под капельницей.
Девушка, как обычно, улыбнулась мне и пошла к магазину. Он находился на другой стороне небольшого лесопарка.
Я опять погрузился в состояние мнимой смерти. Когда я открыл глаза, призрак Серхио стоял передо мной.
Его лицо, руки, ноги, одежда были полупрозрачными, он был отчетливо виден в тусклом свете фонаря, но не отбрасывал тени. Невообразимое количество насекомых, больших и малых, кружилось вокруг него. Когда-то, на такой же остановке для отдыха при автомагистрали, мама рассказывала нам ужасные вещи о насекомых. Тогда тоже площадка была очень большой, почти пустой, на стоянке было совсем мало машин, лужайка со столиками для пикников; дорожка для прогулки, на которой я чувствовал себя гномом, пересекала небольшую рощицу, напоминающую доисторический пралес. Кажется, это было сразу после нашего приезда с Кубы, у меня и у мамы на коже еще сохранились красные пятна от сильнейших солнечных ожогов, полученных на корабле, доставившем нас на Ки Вест.[47] На палубе невозможно было скрыться от солнца. Когда мама через кого-то узнала о смерти папы в тюрьме после ареста, она начала готовить побег. Мы покинули Гавану днем, объявив, что едем в путешествие, укрылись у маминых родственников на побережье Пинар-дель-Рио, в деревне, на маленькой ферме со свиньями, утками и огромным манговым деревом. Мама выкопала кожаный кошелек, зарытый под этим деревом, зашила его в подкладку моей одежды, а потом, посреди ночи, за нами приехал грузовик. Мама отдала шоферу грузовика перстень с императорским топазом, который она загодя приготовила. Кузов грузовика был переполнен людьми. Звезды без счета светили в небе. Я сказал: «Какие красивые звезды!», но мама сурово меня отчитала, предупредив, чтоб я не смел и рта раскрывать. Дальше было совершенно черное под какой-то новой луной море. Я так никогда и не узнал названия этого порта. Вода казалась черным металлом. Как только мы вышли в открытое море, нашим взорам открылись огни Гаваны, и, пока мы смотрели, как они медленно удаляются от нас, плечи у мамы все время вздрагивали. Вот так мы оказались в Майами. «Послушай, Хосе, здесь есть ужасные черви, маленькие красные червячки, которые не водились в Гаване, они проникают через поры под кожу и проделывают ходы внутри твоего тела, от них невозможно избавиться. Если они проникнут в твою кожу, то останутся в тебе до самой смерти».