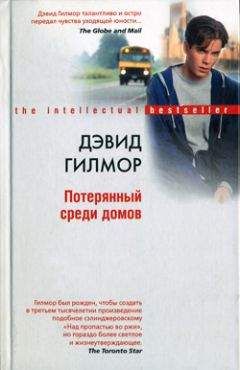Владимир Дружинин - Тюльпаны, колокола, ветряные мельницы
Но нет, он не копирует. В греческих туниках, в римских тогах — фламандки и фламандцы, полнокровные, пышнотелые, «рубенсовских форм», как принято говорить.
Все равно это непохоже на голландскую живопись «золотой поры». Век один и тот же, а пути искусства разные.
Мы знаем, в южных провинциях революция не одолела своих врагов. Власть иноземного короля, католической церкви устояла. А север стал свободным, там художники заново открывали видимый реальный мир. Самое повседневное воспринималось празднично, как свое достояние, отвоеванное у захватчиков.
История не дала такой радости фламандцам.
Это не значит, что фламандская школа живописи отвернулась от народного быта. Питер Брейгель-старший ставил свой мольберт на деревенской улице. Переливаются красками, кишат простым людом, полны движения и, кажется, смеха, песен, звона кружек гулянья и кермессы — сельские ярмарки — на его полотнах. Но в миниатюрных фигурках, одетых по воле художника сплошь во все красное, ощущается стилизация. Художник не довольствуется зарисовкой подлинного, рядит быт по-своему.
Художник революционной Голландии, упоенный действительностью, стремится передать ее во всей натуральности красок и форм. Фламандец перерабатывает ее, претворяет сильными, сочными мазками, как бы сгущает ее, широко пользуется языком аллегории, древнего мира, легенды, библейской или евангельской притчи.
Рубенс — признанный глава фламандской школы. Он выразил наиболее полно особенности ее стиля, ее содержание, ее идеи и устремления.
Искусство во Фландрии не вырвалось целиком из пут феодализма, оно вынуждено подчиняться заказам знати, священнослужителей. Оно не может отказаться от золота корон, от бархата придворных одежд, от блеска кольчуг, от монументальности, от парадного великолепия. Но оно продолжает дело Возрождения, отстаивает его гуманистические принципы. Сюжеты из церковных книг — повод для изображения чисто земных страстей и переживаний. Такова картина Рубенса «Снятие с креста». Ничего божественного — человеческая скорбь, человеческое сострадание.
Едва ли я ошибусь, если скажу, что Рубенс был самым беспокойным из коллег-фламандцев.
Выдающийся портретист Ван Дейк, ученик Рубенса, мог писать своих высокопоставленных клиентов уважительно, бесстрастно, перенося на холст все детали богатой одежды. Мы видели, — для Рубенса это немыслимо. Ему мало было зафиксировать облик человека, требовалось еще вынести ему оценку. Если есть недоброе в характере — осудить! Сила психологического анализа роднит Рубенса с Рембрандтом. С великим голландцем, который вступил в искусство в годы увядания «золотой поры», в годы горьких раздумий.
Рембрандт и Рубенс — две вершины искусства — близки друг к другу в своем пытливом внимании к Человеку. Каковы его качества, каковы возможности, назначение?
В «Ночном дозоре» Рембрандта — рыцари добра, выхваченные из мрака. Рубенс тоже искал их. Героическое начало не гасло в его творчестве.
Одна из самых замечательных его картин «Персей и Андромеда» прославляет подвиг витязя, убившего морское чудовище и освободившего из неволи Андромеду. Ведь красота и насилие, злоба — несовместимы!
Человек могуч, — говорят нам титанические образы Рубенса, его сочные краски торжествующей жизни.
Печатник Плантэн
Станку четыреста лет.
По виду ему не дашь и четверти этого возраста, — сохранили его бережно. Он действует и сегодня. Рабочий поворачивает рычаг, и тяжелый деревянный пресс, насаженный на винт, опускается. Мне вручают квадрат серой шероховатой старомодной бумаги, пахнущей типографской краской.
Я читаю:
Чтоб счастливо прожить весь твой век,
Мирно и честно трудись, человек!
Ссоры плодить и обиды негоже,
Так же как милостей ждать от вельможи…
Со стены из рамки смотрит на меня автор стихотворения. Узкое, костистое лицо, упорные, внимательные, изучающие глаза.
Поэтом он себя не считал. Он просто попытался однажды изложить в рифму свой идеал скромного, усердного ремесленника. Его нетрудно представить за этим вот печатным станком или за страницей корректуры.
Слава пришла к нему сама. Кристоф Плантэн, сын бродячего переплетчика из окрестностей Тура, что во Франции, помышлял скорее всего о верном куске хлеба. Он умел делать книги. Он прослышал, что в богатом блистательном городе книги нужны. Там оценят его искусство печатания и тиснения на коже.
В переулке, у Большой площади, на стене мастерской появился лист бумаги, убористо заполненный печатными строками. Кто найдет хоть одну опечатку, тот получит от Кристофа Плантэна премию!
Плантэн решил держать экзамен не перед старейшинами цеха, как водилось тогда, а публично. Целыми днями толпились, напрягали зрение грамотеи. Награда никому не досталась.
Антверпен принял печатника.
Впоследствии парижанин Гишардэн, видный путешественник, писал:
«Вряд ли где-нибудь в Европе есть у кого-либо больше станков, больше различных шрифтов и других средств книгоиздания, больше людей, редких по образованию, занятых проверкой книг на всех языках мира».
Восхищение Гишардэна понятно: Париж не мог похвастаться таким предприятием. Оно и по нынешней мерке не маленькое.
Крепко стоит большое трехэтажное здание, замыкающее широкий квадратный двор. Фонтан, бивший еще во времена Плантэна. Цепкие побеги дикого винограда, — они и тогда, верно, добирались до самой крыши. А внутри — десятки помещений, сохранившихся в первоначальном виде: литейная, где отливали шрифты, печатный цех, зал корректоров, книжный магазин. В нем прилавок, весы, гирьки. Тут Плантэн аккуратно проверял деньги на вес, чтобы не попали ненароком в его кассу-сундучок монеты фальшивые, очень распространенные тогда в Антверпене. Можно и сейчас, не выходя отсюда, переиздать чуть ли не любую из плантэновских книг — ведь цела вся техника, лежит запас металлических букв весом в полторы тонны, восемнадцать тысяч клише.
В библиотеке, в высоких, до потолка, шкафах с железными решетками, собрано все, изданное Плантэном. Полторы тысячи названий! Тиражи мало уступали нынешним бельгийским — тысяча экземпляров и более.
У Плантэна вышла в свет восьмитомная «Библия полиглота» на латинском, древнегреческом, древнееврейском, сирийском и арамейском, с массой примечаний, составленных историками и лингвистами. Труд сотен специалистов!
Антверпен нуждался в книгах, заказы его были бесконечно разнообразны. Романы и стихи, ноты, наставления по всем ремеслам, кулинарные рецепты, чертежи и расчеты для строителей домов, кораблей, плотин, правила игры в шахматы. Плантэн издавал газету — одну из первых в Европе.
Плантэн снабжал врачей анатомическими атласами, печатал философские трактаты.
Одна из комнат носит имя Юста Липса, видного фламандского ученого и мыслителя. Он проводил в ней целые дни за работой, обложившись книгами из плантэновской библиотеки. Здесь же собирались ученики Липса, в том числе Филипп Рубенс, брат великого художника.
И самому Рубенсу типография Плантэна была хорошо знакома. Он подружился с преемником Кристофа — Яном Моретусом, приносил сюда свои рисунки, а иногда тут же рисовал, делал гравюры.
Антверпену нужны были карты морей и земель, и Плантэн вызвал к себе Гергарда Меркатора, знаменитого географа.
Меркатор выработал принцип составления карт, применяемый и поныне. Путем математических выкладок он отыскал магнитный полюс нашей планеты, что позволило морякам точнее вести корабль по компасу.
Заказы мореплавателей — не только местных, но и иностранных — обсуждались в кабинете географии, у огромного глобуса. Председательствовал Меркатор. Приходили ученые, путешественники, бывалые капитаны.
Плантэн основал династию печатников. Книги с его маркой выходили еще в прошлом веке. Потому-то и выстояла до наших дней замечательная типография.
Впрочем, нет, не только типография. То, что создал Кристоф Плантэн, было, в сущности, и клубом интеллигенции Антверпена, и очагом наук и искусств.
Скульптор Менье
Скульптор Константин Менье по рождению валлонец. Но одна из самых блестящих работ Менье — «Грузчик» — находится в Антверпене.
Критики, писавшие о Менье, указывают, что предки его и вдохновители — в Древней Греции. Ссылаются на слова самого скульптора: «Вы знаете мое безграничное восхищение искусством греков. Чем больше я живу, чем больше наблюдаю природу, тем больше прихожу я к заключению, что они оставили произведения, где торжествуют красота и жизнь».
Но дадим слово «Грузчику».
Понять его немую речь нетрудно. Редко встретишь скульптуру с таким выразительным лицом. И вот что еще интересно: этот грузчик не один, хотя на постаменте только одна фигура. За ним угадываешь его товарищей. Он стоит во главе целой артели грузчиков, стоит, уперев руки в бок и выставив вперед ногу, с выражением вызова на крупном, мускулистом, открытом лице.