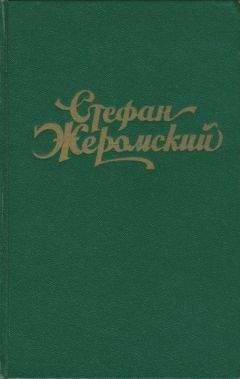Пьер Пежю - Смех людоеда
Вообще-то я всегда любил статуи. В этих садах меня волнуют и притягивают величественные французские королевы, неподвижно стоящие на постаментах. Я думаю о том, что эти каменные женщины были здесь, когда умер мой отец. Они все видели! Стоят, конечно, бесстрастные, но они знают, кто убийца. А самая моя любимая — Батильда, она ближе всех к тому углу балюстрады, где он умирал.
Милая Батильда, как мне нравится твое непроницаемое лицо под резной короной. Непрозрачность твоего взгляда. Твоя открытая шея со шнурком, на котором висит крест. Мне нравятся твои белизна и стройность. Твоя правая рука, придерживающая, чуть приподняв, край плаща. Твои уложенные на затылке косы. Меня в дрожь бросает от твоего молчания, милая Батильда. Прочту ли я когда-нибудь, что таит в себе манускрипт, который ты держишь, прижав к левой груди?
Я очень мало знаю о своей каменной подруге. Молодая рабыня, ставшая женой некоего Хлодвига II, затем его вдовой, удалилась впоследствии в один из основанных ею монастырей. Теперь она безмолвна, но задумчива. Жертва судьбы и мастерица чар. Она продолжает жить на поляне, так мне кажется, и когда-нибудь мне все расскажет. Когда-нибудь я узнаю. Камень заговорит. Но пока, если я сижу у ног Батильды, то лишь потому, что мне необходим тихий уголок, где я мог бы перечитать открытку, которую только что, после нескольких месяцев молчания, получил от Клары.
Еще сегодня утром, когда портье Леон протянул мне конверт, — как далека была Германия! И Кельштайн, и Черное озеро, и сама Клара. И вдруг она мне пишет!
«Полю Марло,
гостиница „Три льва“,
улица… Париже, Франция»
Я узнаю ее мелкий, цепкий почерк, и при виде этих неуместных следов от коготков неистовые чувства прошлого лета тотчас вспыхивают с новой силой. Я думал, что давно с ними расстался, сбросил, как старую шкуру после линьки, но они живы, несмотря на то что Клара так небрежно отвечала на мои письма, тоже с каждым разом становившиеся все короче и холоднее.
Еще сегодня утром кельштайнские приключения были всего лишь сказкой, ничего общего не имеющей с моей сегодняшней жизнью. Последняя страница перевернута, книга закрыта и поставлена на полку в темном коридоре, соединяющем детство с юностью. И вот Клара сообщает, что через несколько дней приедет в Париж. Адреса не дает. Называет имя. Жанна. Она заранее радуется поездке, пишет, что свяжется со мной, как только приедет, и мы, наконец, увидимся. Это все.
Поднимаю глаза на Батильду, она тоже читала, заглядывая мне через плечо. Жду, что мраморные губы дрогнут в насмешливой улыбке. Но ничего не происходит.
В ожидании приезда Клары я остаюсь посредственным учеником выпускного класса. Мне физически нестерпимо сидеть взаперти в жарких комнатах, пропитанных запахами пота и мела, и очень трудно разделять увлечения одноклассников, чьи отцы и деды учились в этом же лицее. Так и кажется, что будущее принадлежит им, и дорога перед ними прямая: они пополнят ряды ученой буржуазии.
Единственное, что доставляет мне удовольствие, это уроки Макса Кунца, молодого преподавателя философии. Ему чуть за тридцать, и с ним в мрачную атмосферу лицея врывается свежий бодрящий воздух. Особенно когда он говорит о самых обычных вещах: есть в нем что-то вызывающее и раскованное, зовущее к свободе. Я не присоединяюсь к ученикам, которые беспредельно им восхищаются, — некоторые увлечены им до такой степени, что по субботам после обеда ходят к нему домой, — но я внимательно слушаю его лекции, не все понимаю, но воспринимаю музыку смысла, удивительно глубокую и родную мелодию, до странности подходящую к моим скитаниям парижского крестьянина или к тем рисункам, которыми я покрываю страницы своих тетрадей и поля учебников. Я неспособен серьезно философствовать, но предаюсь бесконечному созерцанию слоев и разрывов.
Что мне сразу понравилось у Кунца — это его манера представлять нам великих философов как людей, которые, врубаясь в невидимую и хаотичную породу, высекали из нее куски, неожиданно освещающие реальность: системы представлений, четкие формулировки, новые теории. Гераклит, Эмпедокл, Протагор, Спиноза, Кант, Ницше… Кунц произносил эти имена насмешливо и вместе с тем почтительно, и в портретах, которые он перед нами набрасывал, заменял их лица каким-нибудь особенным вопросом. Красота вопросов! Породить на свет вопрос и самому стать этим вопросом — единственная стоящая задача для философа, но, разумеется, и для художника тоже, и для каждого, кто ищет. А потом шлифовать этот вопрос, как шлифуют линзы.
— Но обратите внимание! — подчеркивал Кунц. — Это не имеет ничего общего с топтанием на месте в сомнениях! Великий вопрос всегда содержит в себе нечто утвердительное. И если б вы знали, как меня бесит старость молодых Эдипов! Давайте будем предпочитать им Сфинксов! Они ведь лишены возраста, а главное — какое счастье! — у них нет комплексов!
Весь класс считает своей обязанностью хихикнуть, но на самом-то деле благодаря Кунцу в темных коридорах почтенного лицея, в нескольких минутах ходьбы от Люксембургского сада веет ветер парадоксов. Плотный невысокий Кунц неизменно одет в черную водолазку, хотя его коллеги и почти все ученики носят галстуки. Он курит во время уроков маисовые «Boyard», и иногда кажется, что он втягивает через хрупкую желтоватую трубочку неощутимую субстанцию для размышлений, медленно ее вбирает, но может и резко выдохнуть далеко перед собой, в нашу сторону, равнодушный к тем истолкованиям, которые мы дадим мимолетным очертаниям серо-голубого облака.
Сидя в глубине класса, в тумане зыбкого вслушивания, я разглядываю бритый, шишковатый, блестящий череп, горящие черные глаза, тонкие губы, выговаривающие слова, смысл которых от меня ускользает, и крупные руки, которые двигаются в воздухе так, словно лепят мысль. Кунц совсем недавно начал преподавать философию в этом лицее, но уже стал заметной личностью. И, хотя он кажется куда ближе к ученикам, чем к своим коллегам, о нем уже ходят всевозможные легенды.
Дни идут. А от Клары никаких вестей. Предупредит ли она меня о своем приезде? Да и вообще — подаст ли знак, когда будет в Париже?
Чтобы убить время, соглашаюсь в субботу после обеда сходить к Максу Кунцу. Мне сказали, что он называет меня «рисовальщиком» и хорошо ко мне относится. Что-то не верится. Максим — очень образованный и язвительный парень, и это мне в нем нравится — предложил мне прийти вместе с ним в дом в южном пригороде, где собираются люди, одурманенные диалектикой, жаждущие словесных ниспровержений и убежденные в том, что именно за пределами школы Кунц, который, однако, и не пытается играть роль мудреца или гуру, откроет им их истинную суть. Последняя иллюзия отрочества. Последняя вспышка желания иметь наставника. Но Кунц учит и не доверять никаким наставникам. Имеющий уши да услышит!
— Ну, пошли с нами! Ты не будешь разочарован, старина Филип!
Дело в том, что Максим, высокий, болезненно тощий, упорно держащийся в сторонке от остальных, не менее упорно называет меня Филипом из-за моей фамилии. Именно ему, разумеется, я обязан знакомством и со всеми детективными романами, героем которых был один мой «однофамилец»[10], и с елизаветинскими драмами, автором которых был другой[11]. И именно благодаря Максиму я погружался в эти сочинения с ощущением, будто мне открывается скрытая сторона меня самого. «Юность», «Сердце тьмы», «Прощай, моя красотка», «Глубокий сон»[12]… Так что, когда меня окликают издалека: «Эй, Марло!» — мне чудится, будто во мне есть что-то от мужественного сыщика, авантюриста, моряка или крутого парня, которого на кривой козе не объедешь. Мне нравится, когда по моему лицу и по всем поступкам скользят тени этих книжных героев.
Макс Кунц живет в маленьком домике, еле видном среди зарослей плюща, сирени и жимолости. Домик стоит в заброшенном саду на тихой улице рядом с железнодорожными путями пригородной ветки. Подергав за шнурок дребезжащего колокольчика, толкаешь железную калитку, потом поднимаешься по ступенькам — и оказываешься в мире, захваченном книгами. Библиотека Кунца раскинулась на сколоченных из подручных средств полках — плохо обструганные доски и шаткие кирпичи, на сундуках, стульях и умывальниках, в ящиках, коробках и стенных шкафах. Стопки книг лежат вдоль всего длинного коридора, во всех тесных комнатках первого этажа — даже в кухне, на ступеньках узкой лестницы, которая ведет наверх. Они сплошь покрывают разношерстную мебель, поглощают предметы.
Мои одноклассники, в метро всю дорогу важно, наслаждаясь звуками собственных голосов, обсуждавшие главные на сегодняшний день проблемы, умолкли, войдя в дом, где нас встретила женщина неопределенного возраста, с серебряными прядями в черных волосах, слишком молодая для того, чтобы быть матерью Кунца, и слишком, на наш взгляд, старая для того, чтобы быть его любовницей или женой. Мы пошли следом за этой таинственной экономкой, которую Максим, с его страстью всем давать прозвища, называл Диотимой[13]. Кунца он называл «Господин К.»…