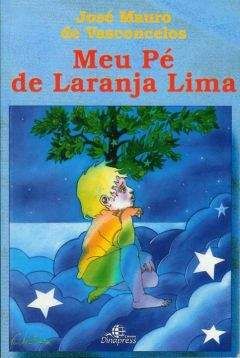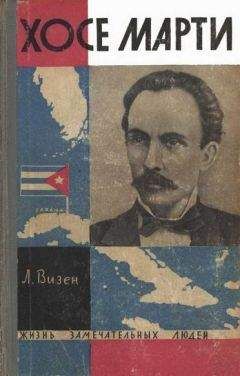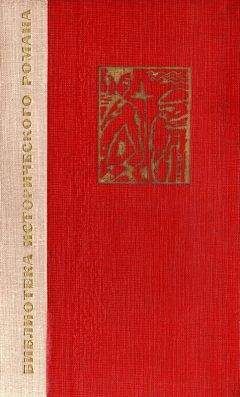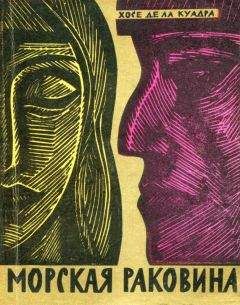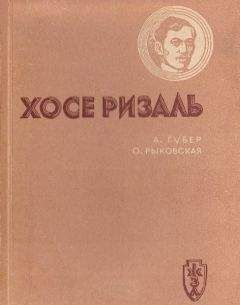Хосе Лима - Зачарованная величина
Искусство Индейца Кондори в форме иератического таинства объединяет испанское и индейское начала, испанскую теократию великой эпохи с торжественным каменным строем инкской культуры. Его искусство — словно театральный балаганчик, где с наступлением вечера индеец-поденщик одержим единственным желанием — водворить инкский полумесяц в испанский строй звездного неба, а среди инструментов, сопровождающих хвалебную песнь, ждет прижатая к груди гитара, чтобы найти свое место в многоголосии и потонуть в звуковой лавине. Индеец, кажется, удовлетворится и малым, требуя от испанского духа лишь уважения и дружелюбия. Ведь были же когда-то почтены описанные Инкой Гарсиласо мумии первых инкских династий, которым, докопавшись до них в эпоху конкисты, торжественно поклонялась на развалинах крепостных стен Куско испанская солдатня. Искусство Алейжадинью — вершина американского барокко, грандиозный синтез испанского начала с африканскими традициями. В животворные дни праздников святого Гонсало пыл негритянских гуляний, исступленно славящих дары весны, упокоивается в заводях чудесных крестильных купелей Алейжадинью, украшенных наподобие органных труб и аккордеонов спиралью из листьев, тянущихся к пухлым ангелочкам.
Как видим, сеньор эпохи латиноамериканского барокко, которого мы назвали истинным первопоселенцем здешних краев, бдением и заботой участвовал в великом двойном синтезе, легшем в основу барокко нашей Америки — союзе испанского с инкским и испанского с негритянским. Взглянем же в заключение, как этот синтез властно вторгается в жизнь Алейжадинью, попутно заметив, что в испанской традиции заключено и лузитанское начало. Мать Алейжадинью была рабыней-негритянкой, отец — португальским архитектором. Уже в зрелом возрасте судьба отметила мастера знаком избранных — проказой, заставив расстаться с миром утех и треволнений и полностью приковав к трудам каменотеса. Вместе с проказой, которая тоже входит в корневую систему его искусства, испанское и негритянское в нем сплетаются и множатся, соревнуются и растут. Растут вровень с городом. Он сам, можно сказать, — животворящая тайна этого города. Как в упомянутой выше поговорке, истинной жизнью Алейжадинью живет по ночам, желая остаться незамеченным среди чужих снов, чью тайну взялся истолковать. Ночами, притененный густолистым сумраком, является он на муле, который американским серебром выбивает новые искры из испанского камня, является словно дух зла, руководимый ангелом добра и трудящийся милостью божьей. Это искры мятежа, рожденные великой творческой проказой нашего барокко и уже в чистоте своей поглощенные истинно латиноамериканской чащей.
Обретение собственного языка{188}Мы говорили{189} о великих узниках XIX века, его галантных изгнанниках, мизантропических беглецах, воистину неуловимых владыках былых времен. Но есть кроме них еще одно подспудное движение, участники которого воздвигли тот словесный театр, где мы добились собственного блеска и независимости от метрополии. Пока фрай Сервандо{190} выплакивает свой ревматизм по несчетным застенкам Испании, бесхитростная пчела сонета и осиное жало зудящей десимы{191} ополчаются на фальшивых иерархов в лиловых мантиях жуков-водовозов. Когда свирепый Монтеверде{192} насаживает на нож заговорщиков и наемных убийц с Ла-Платской равнины, на Восточном берегу{193} появляются большие гитары хуторян, выводящие сьелито{194}, полные презрения к Фердинанду VII{195}. А в наших краях рождается первый среди всех — Хосе Марти с его серенадой для бандуррии{196} восьмисложного стиха и набатным гудом предсмертных дневников, где все чудеса латиноамериканской чащи словно выверены на звонкость одним касанием струны.
На празднике Новруз{197} в легендарной Персии с началом весны и года огромная ярмарка полнится выставленными для всеобщего обозрения изделиями здешних мастеров, а глашатаи тем временем объявляют о приближении неведомого и чудесного, пока в конце торжества среди уставших не появляется индус на зачарованном коне. Точно так же после утомительного многословия эпохи Филиппа IV{198} должен был пробиться густой, будто ночь, впитанная кроной дерева омбу{199}, чародейный голос привалов на хуторах юга и консептистской{200} сатиры в мексиканском вице-королевстве. Тем самым, как это видно уже по трудностям в общении, о которых рассказывает «Пополь-Вух»{201}, латиноамериканцы не унаследовали словесную традицию, но с недоверием, зачарованностью и трогательной детскостью пустили ее в ход.
Марти, Дарио{202} и Вальехо разбрасывают свои зиждительные речения на бесплодных землях, среди мертвых чужих слов. Высказывание может обернуться молчанием, размышление — замереть как убаюканная стрелка весов. Но воплотившие дух Америки Марти, Дарио и Вальехо, копя силы, сосредоточенно ищут иные дали, обращая слова в многоцветные летучие частицы. В любом латиноамериканце сидит смирный гонгорианец, чье красноречие если и взрывается, то как игристое вино: он привязан к уюту и чужд испанского трагизма, — неважно, идет ли речь о немудрящих крестинах или дне полного краха, восхитительно венчаемом усыпанной жемчугами описью имущества за долги.
В хорошо просеянном и пылающем угле испанской сатиры от Минго Ревульго{203} до Рыцаря Щипцов{204} поражает ярость кумовской сплетни, жгучая зависть к власть имущим или придворным. Вильямедьяна и Кеведо, Гонгора и Поло де Медина, как полных мелочной злобы слепней, пускают свои бумажонки на приближенного к трону или просто ближайшего соседа. Кеведо удаются творения, похожие на марципаны из слов, как, например, «ублюдочно-растраченное время», или странные, порождающие отпрысков ночи браки, вроде союза Беды и Нужды с Раздачей, ведущей за собой бесконечную череду чад и домочадцев. «Пойдет», «Годится», «Брось» — таковы словесные формулы, которые Кеведо восставил из праха, чтобы несколько веков спустя их живописал и комментировал Гойя{205}. Он наполнил их кровью. Сумрачный кеведианский череп, кажется, снова пускается в пляс, когда Гойя сажает своих неимоверных чудищ на облитые ядом Кеведо затертые фразы, наподобие того громадного камня, где ждут очереди приговоренные к смерти. Замученные вертячкой генеалогии пляшут, как золотоносная волшебная палочка. Тянется ввысь геральдическое древо глупости, усеянное воробьями, которым посворачивал головы желтый цейлонский ястреб. На одном троне восседает все безобразие двора чудес — карлики, горбуны, верзилы, кривоногие, позже прославленные Гойей в образах придворных и венценосцев, приплясывающих носачей в курточке тореро, которых облизывают спаниели. Кеведо обрушивает многотонный груз словесных стрел на тощий морализаторский хвостик Нарумяненная грусть дона Франсиско, краски для которой растирал Гонгора, начинает с того, что не создает чудовищ, чьи набитые зобы сумели бы переварить словесные заряды сатирика. Встретив редкостное словцо, скажем «новорогач»{206}, он пускает его в дело, сталкивая с вышедшим в тираж «рогоносцем». Напор и не знающая равных словесная сцепка мобилизуют у Кеведо гигантские речевые массы, прилагая их к несовершенствам, изъянам и титанической ярости. В финальных сценах с cocu[37]{207} в комедии Мольера чувствуется мягкость и сострадание; не таков Кеведо: он охаживает беднягу эдакой словесной оглоблей, дробя и кроша его в пыль. Воображение Кеведо тяготеет к центру земли, преисподней греков; как у ониксового нетопыря со свинцовыми глазами, в его манере приветствия есть что-то от холодной резкости каблука, вонзенного в мозоль.
Но эта разрастающаяся чудовищным рыбьим пузырем боль от удара, обрушенного на чуть показавшийся хвостик мерзавца, эта коварная повадка рыси с мягкой шерсткой — прикрыты вековой непроницаемой бронею стоической мудрости, плакировкой римского нравоучительства в сонетах, от чьей формы веет уроками смерти, как будто у радостей и удач в мире Кеведо всегда есть изнанка последнего испытания. Скелет и руины, весы и любовь разом, словно шпага и, вместе с тем, кадуцей. Строки сонета охватывают дона Франсиско как ребра: по смелому и точному выражению, он и жизнь свою ведет узником грудной клетки, похожий на те черепа, что служат цветочными горшками, вздымая стебель и пряча на донце высохшую кольчужку могильного червя. Его черной куртке с орденским крестом святого Иакова вполне в тон строчка инистого серебра высшей пробы и красный цвет крови, смешанной с землистой требухой. В нем есть что-то от суровости Сурбарана{208}, от скелетов Вальдеса Леаля{209}, но главная его черта — хмурость, насупленные арбалетом брови: лишь медуза, сумрачный ангел наших краев, достигает такой суровости — не пронзительного звука утренней трубы, празднично славящей всех без разбора, а проницательности будущего черепа, что диктует и стирает свои непостижимые шутки, которые читаешь, как будто получая оплеуху.