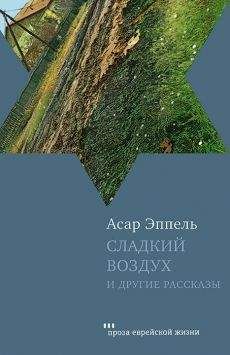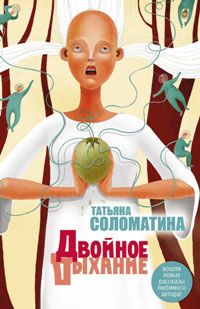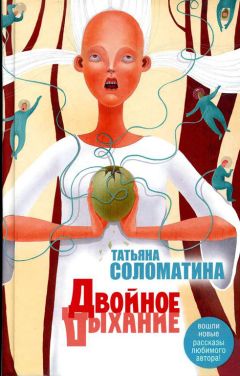Асар Эппель - Латунная луна
Уже пошли хлопоты с закупкой дощатых ящиков для привоза в Москву фруктов, с походами в дальнюю деревню, где у одного абрека можно было купить недорогую, притом отменную чачу, а на пляже, который после шторма и отплытия медуз просох и возродился, хотелось полеживать и молчать, подставляя солнцу недозагорелые фрагменты, причем в карты не играть, анекдоты не рассказывать, денег больше из дому не ждать, провожать уезжающих прежде нас и новых пассий не заводить.
В Москве и Питере начинался театральный сезон, поэтому стоющих людей для нашей компании уже не появлялось, а появлялась курортная чернь, заводившая свои отношения, пропахшая неотмытыми еще вагонными запахами, исполненная рвения к традиционным пляжным развлечениям — надеванию мужчинами лифчиков (помните?), поеданию вареной кукурузы и чурчхелы, похожей на собачьи экскременты.
По-новому зашептались и засопели вечерние скамейки, новые ловеласы подсаживались к пока еще неохваченным и недозагорелым под бретельками барышням, кроме того, народ по вечерам потянулся на домотдыховские танцы. Люди с удивлением разглядывали непривычно одетых, тех, кто оставался от нашего сезона, при этом что-то говорили друг другу на ухо, показывали пальцами.
На базаре появились первые продавцы сказочного фейхоа, в духане клянчили еду народившиеся перед нашим еще появлением, а теперь выросшие в огромных барбосов щенки, новые приехавшие называли остатки нашего заезда «артистами», кто-то из них, приехавшие рыбачить, поймали маленькую черноморскую акулу — катрана и, зажарив ее в углу пляжа, съели. Еще говорили, что артисты здесь не просыхая киряли, заходили пьяными в море и многие утонули.
Словом, делать здесь было больше нечего. Следовало отбывать. Даже хозяин, чтобы не отпугнуть новых искателей жилья, убрал от сарая белые теперь постоянно светившиеся челюсти, уставши почитать их кознями армяшки Гургена. На прощанье была отвальная, он называл нас дорогими друзьями, божился, что писем о наших безобразиях не писал, хотя ему уполномоченный Коноваленко предлагал, брал у нас адреса и телефоны, обещаясь заехать, когда будет в Москве, говорил Кадукову, что убедился в скромности его аппетита и пускай теперь приезжает, когда хочет, со следующего, мол, года он наладит пекти чебуреки.
Так что уезжать можно было без сожалений.
Еще поезду предстояло двое суток колотить по рельсам, еще надо было пить вагонный чай, еще броски на стрелках будут сталкивать тебя с агрегатной позиции в поездном туалете. Но зато в Понырях можно будет купить яблоки, а еще… А что еще? А ничего больше!
В Москве, конечно, пошло житье московское. Сентябрьский дождь, зонтики, созвоны, дозвоны, рассказы. Среди сна вдруг вытекала из уха черноморская до сих пор вода.
Позвонил я, конечно, той, с которой толкал в горку «москвич» с покойником.
Поздоровался с мужем. Потом в трубке послышался веселый голос. «А я уж думала, что вы или не приехали, или забыли. Знаете, я, как в поезд села, сразу поняла, до чего же было весело и хорошо со всеми вами. А тут по вагону пошли собирать телеграммы! (Тогда это было распространено — примеч. автора). Я решила вам послать, и послала. Получили?»
— Что?
— Телеграмму мою…
— Какую?
— Которую я с поезда дала. С дурацким текстом.
— То есть?
— Грузите апельсины бочками — это из Ильфа. А еще «Пересчитывайте Черноморский флот!»
— И на чье имя послали?
— Кадыкову и K°.
Вот оно что значило Кадыкову И.К…
— Я мужу потом рассказывала — смеху было! Вы-то понять наверно не могли откуда и кто. Смеялись наверно.
— Да нет. Мы флот пересчитывали… Сбивались то и дело…
Про нашу косогорную дорогу не произнеслось ни слова. Хотя разговор, казалось вот-вот уткнется и в эту тему. У меня, кстати, все еще болели мышцы.
Потом я узнал, от каких-то ее друзей, что красивая эта женщина была после института административным медицинским работником. Знающие все на свете люди при этом настаивали, что диплом у нее был, скорее всего, купленный.
Как мужик в люди выходил
Облаченный в вишневые бермуды провинциальный вахлак Сучок, прозванный так еще в родном Помоздине, молодой, нахальный и богатый, сидел в шезлонге на лужайке своей подмосковной дачи.
Он пребывал в ярости.
Вчера вечером, заехав к одной студентке выпить и вообще, Сучок уронил на себя скользкую шпроту и в сердцах сказал:
— Твою мать! Полувер замарался!
— Пу-ло-вер, Сучок! Говорить выучись! — возникла студентка, а он прошмондовке взял и дал по уху.
Оголец из Помоздина, Сучок не выносил замечаний.
Когда он вернулся домой, жена, конечно, проснулась и расположилась было ответить его чувству, но где там! У Сучка из-за студенткиной грубости отсырели пальцы ног, и в лавандовой от французской стирки постели некультурно запахло.
Дачная погодка, конечно, привела бы его сейчас в себя, не загляни Сучок в лежавшую перед ним на столике книжку:
«При исполнении приговора суда над блудницей он прямо отрицает суд и показывает, что человеку нельзя судить, потому что он сам виноватый».
Отрицал суд, оказывается, Христос, а виноватым выходил Сучок.
— Во! — ошарашенно согласился он. — Это про вчерашнее по морде!
Книжка называлась «В чем моя вера» и была произведением писателя Толстого, того самого, чей рассказ «Филиппок» был в школе Сучком так и не дочитан.
Однако по порядку.
Когда Сучок вошел в силу и стал ездить с мигалкой, его попринимали в разные закрытые места, где голые бабы вытворяли хрен знает что, бармен наливал из трех бутылок сразу, в теплом бассейне плавали пидоры, а сам он привыкал к столичному житью и набирался важности. Еще Сучок обзавелся женой с данными фотомодели. Веркой. Когда похвалялись женами, он как бы между прочим вставлял: «да она у меня с данными фотомодели».
В клубах ему случалось пересекаться с деятелями искусства и литературы. На попытки порассуждать деятели шли неохотно и глядели мимо. А когда для разговора Сучок спрашивал, как они относятся к Евтушенко, от ответа, словно бы надсмехаясь, уходили вовсе.
И Сучок решил пообтесаться. Начал с Библии, но, наткнувшись на «кто умножает познания, умножает скорбь», не повелся. В Помоздине говорили ловчее: «Меньше знаешь — крепче спишь».
Для приобщения к московской земле Сучок стал заруливать на черном своем джипе в окрестности, и однажды попал в место под названием «Ясная поляна». Усадьба такая. Соток тыщи четыре. Причем, того самого Толстого, о котором уже сказано.
А там как раз собралось на конференцию человек пятнадцать мужиков и кое-какие женщины. И все целыми днями говорили про непонятки этого Толстого с церковью, хотя с виду мужики были как мужики, — у многих даже рожи испитые. Наезжали один на другого страшно. И каждый раз обязательно поминали название «В чем моя вера». Отлучили графа или не отлучили? Бу-бу-бу — «В чем моя вера». Кто на кого тянул? Граф на церковь или она на него? Бу-бу-бу — «В чем моя вера». Ничего он на нее не тянул — бу-бу-бу, и церковь на него не тянула — бу-бу-бу…
Словом, охереть можно было, а поскольку Сучка дома ждала жена с данными фотомодели, то и бабы тамошние его не расположили. У одной, правда, он к кое-чему из фигуры поприкасался. Но она была литературовед и возмутилась.
Прощались душевно — ставил Сучок. Яснополянские собутыльники, говоря тосты, все как один советовали ему прочесть статью «В чем моя вера», а он пообещал им устроить перенесение праха Льва Толстого на Ново-Девичье.
И вот эта самая «В чем моя вера» перед ним раскрыта.
А денек чудный, поэтому он то и дело отвлекается. То поглядит, как сношаются бабочки, то сощелкнет со страницы муравья, то оторвет ногу касиножке и нога потом долго дергается, то поправит в неразношенных бермудах свое хозяйство.
Дача у него превосходная. Одно плохо — соседствует с дачей попревосходней — одного олигарха.
У Сучка в банке немерено бабок, а у соседа немерено самих банков.
Вокруг соседской дачи каменный забор высотой с двух рослых мужиков. По углам — вышки, на которых охрана с израильскими автоматами. С вечера врубаются прожектора. А вот забор между дач — для дружелюбия не сплошной. Зато кованый. Сучок к соседям глядеть вообще-то не любит, но взял и поглядел. А там розовеет олигархова жена. В золотых стрингах. Причем ленточка ушла куда надо и совершенно не виднеется. Даже охранник на вышке покраснел и отворотил морду.
Похоже, соседка раскладывает вдоль дорожки перламутровые раковины южных морей. Ясное дело, что кверху задом.
Сучок хотя не покраснел, но поправил в бермудах чего поправляют, тоже отворотился и листанул статью. А на странице увидел: «всякое действие, имеющее целью украшение тела или выставление его, есть самый низкий и отвратительный поступок», и дальше: «И сказал ученикам своим: „Не заботьтесь… для тела, во что одеться… Посмотрите на лилии, как они растут: не трудятся, не прядут; но, говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них“.»