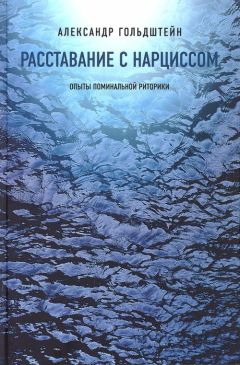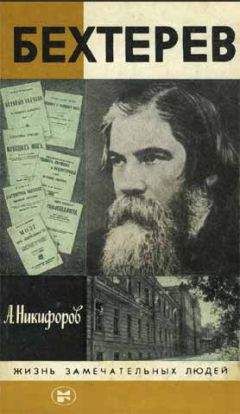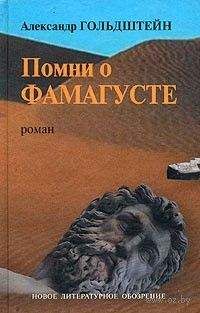Александр Гольдштейн - Расставание с Нарциссом. Опыты поминальной риторики
Как все это будет происходить? Но ведь большевики сами предложили — исходя из своих интересов — недурное средство, которое всеми конструктивистами русской земли может быть использовано уже в собственных целях. Это Царь НЭП, как назвал его М. Андерсен-Нексе[25]. Мне кажется, что, несмотря на недвусмысленные декларации, в которых ЛЦК (отбиваясь от многочисленных нападок критиков, уличавших констров в буржуазности) поддерживал новую власть, пролетарский характер этой власти и специально советские методы преобразования России, конструктивисты, особенно в лице очень деятельного на сервилистском поприще Зелинского, были течением несоветским, и даже внесоветским. Говорю это совсем не в качестве сомнительной анахроничной похвалы, но в порядке констатации факта и отношения. ЛЦК хотел добиться своего, надеясь использовать методы, предложенные большевистскими реформистами и прагматиками. И это сближало ЛЦК с представителями ряда других течений, в том числе тех, о которых шла речь выше. Россия же в результате должна была стать страной европеизированной (еще лучше — американизированной), сытой, опрятной, удобной для жизни, с легким и функциональным бытом — как на обновленном после войны Западе.
Любопытно, что резко обозначенные упования ЛЦК на нэп были мало типичными для тогдашней литературно-идеологической среды. Эпоха нэпа вызывала к себе острокритическое отношение советских литераторов. Эмблематическими фигурами смятения и протеста стали в словесности образы красных командиров, не сумевших приспособиться к новой политике и быту, а также ненависть к заполненным продуктами и товарами витринам. «Где-то… где-то пляшут балерины, // У кого-то в сердце васильки, // А вот я маячу у витрины // И скрепя сжимаю кулаки», — писал поэт Б. Ковынев[26]. Дань этому мотиву отдал и колеблющийся участник ЛЦК Багрицкий[27]. Однако не этой, пусть даже сильной, эмоциональной реакцией исчерпывалась суть дела: далеко ведь не все и даже совсем не большинство советских писателей того времени стояли на позициях ортодоксального революционаризма и были обескуражены угрозой выветривания его эгалитарных идеалов. Нэповская действительность в очень глубоком, фундаментальном смысле представала неподлинной, недовоплощенной, пошлой. В ней присутствовал какой-то неустранимый изъян, какое-то коренное неблагополучие. Раздираемая противоречиями между относительной свободой самопроявления и систематической дискредитацией этой самодеятельности, между Сциллой отвратительной новой бюрократии (советская бюрократия — специальный объект сатирического изображения в таких произведениях той поры, как «Причины происхождения туманностей» А. Новикова, «Пушторг» И. Сельвинского, «Коммуна восьми» Л. Грабаря, «Любань» Д. Четверикова, «Черепахи в автомобиле» М. Роги и многих других — чтобы не называть известных сочинений В. Маяковского и А. Платонова) и Харибдой неприглядного, нуворишского накопления, эпоха нэпа в интеллигентском сознании оправдывала характеристику, выданную ей постфактум Б. Пастернаком в «Докторе Живаго»: самый двусмысленный и фальшивый из советских периодов. Время нэпа знаменовало собой метафизическое зияние действительности, сползание ее в сферу вопиющей неопределенности, с которой трудно было примириться — в том числе и сознанию несоветскому.
Вл. Жаботинский писал в одной из статей 20-х годов, что в Советском Союзе нет ни социализма, ни даже госкапитализма. Доминирует же архаическая буржуазность, «когда власть и хотела, и боялась развития частного предпринимательства, одной рукой поощряла промышленника, а другой грабила его, как только он немного обрастет шерсткой»[28]. Жаботинский презирает режим за пошлое реставраторство (и за реставраторство, и за то, что оно пошлое), он скорее простил бы власти суровый социалистический эксперимент (когда до последнего дошло дело, симпатий автора он не вызвал). Более трезвую позицию занял в этом вопросе Н. Устрялов, не питавший особых иллюзий относительно буржуазности (пусть на старинный манер) нэповской России. Он видел, что Россия чревата будущим, он отмечал в русской революции, не исчерпавшей своего потенциала и в пору «промежутка» 20-х годов, огромную, самозабвенную волю к всемирно-историческому рубежу: Россия, таким образом, снова стояла в преддверии «действительности», готовясь окончательно преодолеть нэповское метафизическое зияние[29].
Была и другая причина, по которой послереволюционное время представлялось интеллигентскому сознанию ущербным, лишенным органической цельности, имманентной самодостаточности. Интересно, что причина эта была словесно тождественной той, о которой говорили в 20-е годы сами большевики, и в особенности партийные оппозиционеры, предрекавшие «термидор». Это — реставрация. Но для определенной части интеллигенции реставрация, принявшая к тому же почти пародийные формы, означала совсем другое и была неприемлема нравственно и психологически. Ведь это было равносильно тому, чтобы переступить через реки крови, пролитой на гражданской войне, оставить неискупленными миллионные жертвы, смысл гибели которых переставал быть ясным. Переступить — и вернуться к былому, но безмерно ухудшенному и пошлому[30].
Пожалуй, первыми, и очень громко, заговорили об этом сменовеховцы. Ю. Ключников восклицал в знаменитом сборнике: «…великий народ не может безнаказанно нести тяжесть жертв неискупленных… ему невыразимо мучительно от их сознания. Так как же должен страдать этот великий народ после неисчислимых жертв теперешнего лихолетья, если ценою их он не достигнет великих всеоправдывающих результатов… Способен ли он будет дальше жить в ясном сознании, что он преступник, негодяй, идиот, разрушивший все, не будучи ни пьяным, ни одержимым, и взамен… ничего! решительно ничего!!! Нет, пусть знает каждый, что нам теперь другого выбора нет: или все мы, русские, взятые вместе, преступники, или мы делаем великое дело»[31]. Лишь социальная новизна, социальное творчество небывалого могли примирить рассудок с жертвами. К тому же многие сходились на том, что культура будущего должна быть, вероятнее всего, социалистической или фашистской, диктаторской, по-варварски смелой и свежей, а кроме того синтетичной, идущей на смену кризисному, исчерпавшему себя либерализму, парламентской демократии[32].
Если сменовеховцы и евразийцы[33] мечтали о восстановлении руками большевиков империи, которая затем внутри себя переменится и будет являть собой ту или иную комбинацию монархии и корпоративной солидарности, или синтез этих двух начал (в духе идей Льва Тихомирова), то конструктивисты надеялись посредством все тех же большевиков американизировать Россию, уничтожить в ней все обломовское, «вшивое» и неотмирно-мечтательное, то есть фактически преодолеть Россию в ее национальной (и сверхнациональной) самобытности. Большевики представали образцовым воплощением принципа грузификации. На них все надеялись нагрузить что только можно, полагая, что функциональная отдача будет очень велика. Реформистские замыслы нэповских большевиков понимались людьми ЛЦК как удобный рычаг для приведения в действие собственных планов — превращения России в Америку. Нэп же казался подходящим плацдармом для осуществления этих целей. Речь, по сути дела, шла о трансформации всего характера российской истории, то есть о чем-то еще более масштабном, чем проекты большевистских социальных преобразований. Программа ЛЦК предполагала смену парадигмы исторического развития страны, смену доминирующих констант жизнеповедения и жизнечувствования основного ее этнического слоя. Да столь решительную, что большевизм оказывался лишь техническим средством исполнения этой программы, которое со временем должно исчезнуть за ненадобностью. Большевизм с его противоречивыми интенциями просто не впишется в новую конструктивистскую Россию, не удержится в ней, ему не хватит сил. На какие бы внутренние реформы ни решился большевизм, он остается психологией подполья, бури и натиска. Он старомоден по сравнению с целостной философией современной мировой цивилизации — конструктивизмом (в том варианте ее, который отстаивал ЛЦК). В эстетике же большевизму соответствует футуризм и его прямой потомок — «Леф».
С «Лефом» у ЛЦК были отношения сложные. Лефовцы, пожалуй, ревновали констров к их постепенно набиравшей силу популярности[34]. К тому же им, вероятно, был не вполне ясен истинный вектор ЛЦКовских устремлений. Отравляло существование и мучительно-двойственное, а затем резко отрицательное отношение к «Лефу» партийного руководства. Между тем от «Лефа» ЛЦК решительно отмежевывался. «Леф» уже выполнил свою функцию уничтожения традиционной эстетики, он уже все сказал по поводу российской бестолковщины и мечтательности. Он ниспроверг всех классиков. Он осуществил разрушительную работу над русской действительностью, провозгласив отказ от «гуманизма»[35] и набросав чертеж грядущего стерильного и абстрактного социалистического государства (в критических статьях того времени лефовская доктрина нередко сопоставлялась с фашистской). Но все это только первый этап, давно превзойденный конструктивизмом, — ЛЦК на сей счет высказывался постоянно. «Леф» по-прежнему остается идеологией нигилистической богемы, связанной с более общей линией русского нигилизма (отсюда и наследственные утилитаристские тенденции лефовцев). Конструктивизм же организует и строит, его пафос — созидательный.