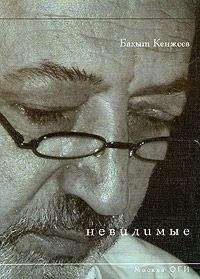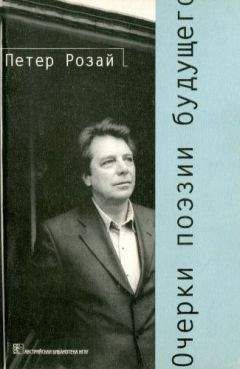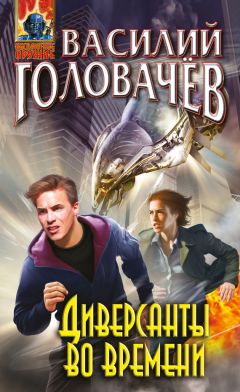Новый Мир Новый Мир - Новый Мир ( № 5 2007)
Наконец — услышал и увидел. Скорбной походочкой прошел за спинами уже выбранных мною людей, спустился в подвал, добежал до своего отделения, поднялся на первый этаж, миновал холл и оказался на территории больницы. Было 18.30. Падал крупный снег. Под ним, вдоль строя такси, дошел я до входа в приемное отделение и ворвался в него — глаза дико блуждают, дыхание учащенное, пальто распахнуто, в памяти — сольный концерт алкаша Мерзлушкина в больнице на Каширке.
— Батя! — заорал я, и все приемное отделение навострило уши. — Батя! Маню — увезли?
Работяга в годах, папаша Марии Федоровны Жужелевой, пялил на меня глаза, зато супружница уже готовилась грудью защищать его от напасти.
— Да что ж вы наделали! — в полном отчаянии возопил я, еще и торжествуя в переизбытке чувств. — Я ж давно говорил Мане — иди к врачу, не отравилась рыбой она, у нее — аппендицит! Говорил же! Умолял! А теперь вот — гнойное воспаление, перитонит! Скорей, скорей! — выталкивал я их на воздух. — Скорей к профессору! Привезем его сейчас — тогда и спасем Маню! Мы ее спасем! — возликовал я, запихивая ошеломленных стариков в такси. — Спасем!
Две минуты езды — и планы мои претерпели изменения.
— Стоп! — приказано было шоферу. — Я жить не хочу без Мани! Я иду умирать!
И выскочил вон — в темноту, в парк, из снежной белизны которой торчал черный лес…
Больница на Каширке меня не приняла, преградой стал наглый вахтер, и бессмертный монолог Мерзлушкина повторился на безлюдной улице, я шел по ней к метро, кулаком грозя сытым и теплым обывателям.
Надо было где-то переночевать: завтра при свете дня найдется тайное убежище. Долго, зуб на зуб не попадая, отряхивался от снега у метро, стараясь быть незамеченным: не дай бог, встретится знакомый, протянет воспетую графоманами “руку помощи”. Ночь близилась, и в нескольких миллионах квадратных метров жилья не было дециметра, готового меня приютить. Я углублялся в кварталы, спускался в метро и поднимался; я доверял только чутью и остановился наконец перед засыпающим домом на незнакомой улице. Подъезд, как и положено, открыт, лампочка, разумеется, давно разбита, в полутьме видна секция почтовых ящиков; в самотеке когда-то читано: некоторые хозяева ключи от квартир, чтоб не потерять их, бросают в почтовые ящики, а вот ключи от ящиков помещают…
Куда — тоже известно, от кого-то слышал. Чуть приподняв секцию с ящиками, пошарил рукой по стене и металлу. Нащупал прилепленный пластилином ключик. Стал совать его в замочки, два ящичка открылись, но — пустые. Наконец в крайнем справа звякнула связка холодных ключей. Они утеплились в кулаке и вместе со мной стали подниматься на последний этаж, только там могла находиться квартира, судя по месту почтового ящика.
Поднялся. И здесь полутьма. Прислушался. Только за одной дверью радующее безмолвие. Ключ к верхнему замку подошел, к нижнему тоже. Осторожно тронул дверь. Вошел, свет не зажигал. Ощупью добрался до какой-то мягкой поверхности, лег на ней и заснул, глубоко и радостно дыша. Проснулся, сел и минут десять соображал, каким это образом проник я в свою родную квартиру, где умер отец, где умерла мать и где мне придется, видимо, умирать.
Но не сейчас же! Я начинаю новую жизнь и убью того, кто напомнит мне о прошлом.
Сдернув с ковра на стене так и не спрятанный дуэльный пистолет, я изучил его. Из кремня еще высекались искры, пороха, конечно, не было, но со всех спичечных головок я соскреб серно-фосфорную смесь и всыпал ее в дуло. Даже если что-то не сработает, зажигалка будет рядом. А в дуло сунул ком бумаги и корпус толстой авторучки. Устроился в кресле перед дверью. С расстояния в семь метров выстрел поразит пришельца. Лишь Анюту пощажу я, потому что она — это я и она — это будущее.
Сутки я сидел перед дверью в кресле и спал в нем ночью. И еще сутки ждал. Желудок подавал неприятные сигналы. Встал, глянул в холодильник и сплюнул. Разделся, вымылся под душем. Газет я давно не выписывал, письма получал редко, но рука цапнула ночью в почтовом ящике какие-то бумажки. Прочитал. Сущая чепуха. Правда, Союз писателей РСФСР в лице какого-то типа предлагал мне позвонить по такому-то телефону. Позвонил. Щебечущая девица спрашивала о моих творческих планах, скоро ведь новый год. Поблагодарил. За что? Непонятно. За выздоровление? Возможно: пульс, дыхание, температура — в абсолютной норме. Друг Вася строит козни за рубежом. Жена давно погибла. Дочь неизвестно где. А жить-то надо. Денег бы занять у кого.
Сунулся к безотказной соседке. Фигушки, померла Берта Моисеевна. Дочь ее что-то вкусное готовила на кухне, обсосала пальцы в соусе, вытерла руки и на вопрос, занимал ли я у нее деньги, ответила:
— Пока — нет. Пока.
У метро купил пару пирожков и поехал в “Пламенные революционеры”. Редакторша не узнала меня или не захотела узнавать. Видимо, совсем другая женщина, а о той, прежней, спрашивать неприлично. Столько лет прошло. Дали мне список тех, кто, отгорев синим пламенем, достоин возрождения и с моей помощью может восславиться в веках. Человек пятьдесят, не меньше, остальные ждут своей очереди, а их — видимо-невидимо, все население СССР состоит из “пламенных”. Чтоб не изнурять себя выбором, взял того, кто первым числился в Пантеоне борцов. Бела Кун, Будапешт он покинул, пошел воевать, чтобы русскую землю мадьярам отдать. То есть патриот и интернационалист, верный продолжатель, с клещами не расставался.
В курилке услышал, что в Москве года два назад была Олимпиада.
Аванс — получил. Вошел в “Узбекистан”, в голову ударил аромат Востока, жить можно и надо. И впрямь — легко отделался, уцелел.
Бумажный планер
Найман Анатолий Генрихович родился в Ленинграде в 1936 году. Поэт, прозаик, эссеист, переводчик. Живет в Москве. Постоянный автор “Нового мира”.
* *
*
Дмитрию Веденяпину .
Февральским днем серебряной Москвой
пройдись от Чистых до Библиотеки,
мимоидущим ритм внушая свой,
не чувствуя, в каком все это веке,
не зная — нет скамеек — где присесть
сообразить, на что это похоже,
лишь ощущая: что-то в этом есть
и — что важнее — нет чего-то тоже.
Не прошлого: как раз в домах на слом,
в социализме голубиной почты,
в румянце мглы — его полно. Но в нем
нет главного.
Нет будущего, вот что.
* *
*
Чем меньше в вещи частей, тем она прочней.
А чем прочней, тем больше в ней аксиомы.
Не начинай со мной разговор, чувачок, не смей,
мы ведь с тобой, мужик, алё, не знакомы.
То есть когда-то знакомились — что с того?
В дружбе клялись, говоришь, и делились хлебом?
С дури, дружок, от легкомыслия моего.
И твоего. В том бытии нелепом.
Молоды были, разогревали пыл
сердца, ложились костьми, лезли из кожи.
Ты — одна тысячная тех, кто меня дробил
на элементы, в пыль. И я тебя тоже.
* *
*
Нужно, чтоб было тошно.
Тут мы согласны, да?
Невынужденное — роскошно!
Изредка, иногда.
Нужно, хотя бы с горем
пополам, на Кольце
Бульварном пробраться в корень
ветл в терновом венце.
Но неохота. Тошно.
Лучше игрой лица
выразить скоморошно
раскованность. Не до конца.
А на конец оставить
вздор болтовни — и в нем
несколько слов на память
вроде стишка в альбом.
И попрощаться. Сроком
на. И уже без слов
дернуть губами — током
невынужденных катастроф.
Певец
Он и телесно был инаков,
как мгла кулис, как призрак ливней.
И много ль имени Иаков
мощней есть в мире и надрывней?
Зерно булыжного настила