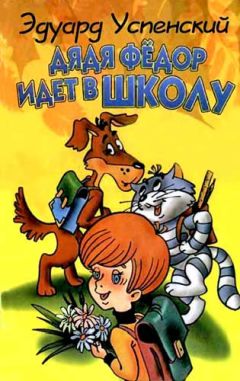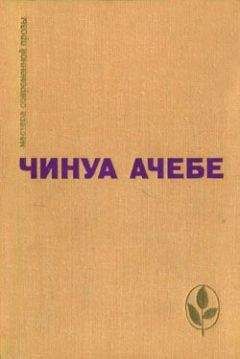Залман Шнеур - Дядя Зяма
И вот тому доказательство: против дяди-Зяминых ворот повадилась стоять, укутавшись в шубу, соседская девчонка, кривоногая и пузатенькая. Стоило Мейлехке Пику и Гнесе выйти на прогулку, как она начинала петь:
— Ой, мать, моя мать!
Кот сметану стал лизать,
Куры яйца разбивать,
Невеста платье надевать.
Зятю талес надо дать…
Где ж на все денег взять?
Между нами говоря: на что тут сердиться? Это же известная песенка. Но Мейлехке она была как пуля в сердце, потому что точно подходила к его поздним подъемам, к недовольству, царившему в доме… Даже тетя Михля, подслушав однажды эту песенку, удивилась: откуда они, эти бедные уличные дети, все знают? Это же все чистая правда! С тех пор как в их доме появился Мейлехке, дом перестал быть домом. Кошка больше не кошка, куры не куры. Все распустились. И Гнеся больше не Гнеся, и Зяма, Боже упаси, постоянно сердит!
Но сам дядя Зяма не надеялся на Всевышнего. Он вбил в свою упрямую голову, что должен сам сделать из зятька человека. Юноша с таким хорошим почерком, как у Мейлехке Пика, еще может стать человеком и должен им стать! Его, Зяму, все равно не переубедят.
И Зяма нашел для Мейлехке работу. Усадил его за конторские книги, которые, с тех пор как племянника Шикеле с позором выгнали из дома, были очень запущены.
— Ну, — помирился Зяма со своим одаренным зятьком, — почерок, слава Богу, у тебя хороший, и считать, видно, ты тоже умеешь, вот тебе все книги, и посмотрим, как ты справишься!
Мейлехке Пик дорвался до счетов, как до горячих хремзлах. Он принялся считать с преувеличенным рвением. За несколько предшествовавших свадьбе месяцев в карманах Зяминых жилетов набралось немало записок, квитанций и записных книжек с денежными пометами, а также цифр на титульном листе тетиного «Корбн Минхе» и цифр, выведенных углем на стенах сарая… Все обстояло точно так же, как тогда, когда Шикеле был принят на «место». Однако Мейлехке Пик был далеко не так трудолюбив и предан своему делу, как бедный племянник Шикеле. Преувеличенное желание Мейлехке работать перегорело быстрей соломы. После нескольких дней сортировки квитанций и счетов он стал жаловаться на головную боль, на то, что у него рябит в глазах. То ему хочется подкрепиться какао, то охота выпить сельтерской. Михля и Гнеся мчатся наперегонки с полными стаканами, чтобы удовлетворить эти изысканные аппетиты.
Но что правда, то правда! Новые ряды цифр и букв, выписанные Мейлехке по соседству со старыми записями Шикеле, выглядят как дорогая парча, которую приметали к рогоже. И сравнить нельзя с прежними записями. Расчеты Шикеле состоят из скромненьких цифр, из будничных букв, а здесь, в записях Мейлехке, все по-субботнему, все красиво. Вот, например, семерка — это франт с гибкой талией и элегантно торчащим из кармана сюртука носовым платком. Тройка коронована редкостной плоской короной, как шутовской король… Четверка — перевернутый легкий венский стул, какой фокусник держит на весу, поставив на один зуб. А этот ноль — он вовсе не пустое место! И восьмерка аппетитна, как праздничная плетеная булка. Только тете Михле удается сплести такую к Пуриму — да и то раз в десять лет… И так все остальные цифры. Ну а о почерке Мейлехке, о его буквах и говорить нечего. Ведь благодаря своему почерку он и стал Зяминым зятем.
Мейлехке Пик все время создает новые шедевры. И вписывает их в конторские книги. Дядя Зяма время от времени забегает, заглядывает в записи через плечо своего зятька, и довольная улыбка расплывается под его жесткими подстриженными усами. Но при этом он не замечает, что нежный зятек кривится, потому что от тестя и его передника несет тяжелым кислым запахом обработанных квасцами кож. Этот запах портит Мейлехке вкус какао, которое стоит перед ним в облаке душистого пара.
Так продолжалось неделю, две недели, еще полмесяца стараний, прекрасных букв и точеных цифр, и, наконец, Зяма возжелал вкусить сладких плодов этого виноградника. Он стал задавать своему одаренному зятьку странные вопросы:
— Скажи-ка, Мейлехке, сколько хорьковых пластин было выдано для шитья?
— Сколько денег выплачено подмастерьям за прошедший месяц?
— Когда нам надо платить по векселям за бобров?
— Во сколько нам обойдется эта тысяча необработанных сусликов вместе с доставкой?
Эти вопросы, которые не относятся ни к искусно выписанным цифрам, ни к художественному почерку, а только к делам практическим, Мейлехке воспринимает как пощечину и сразу сердится и путается. Кричит «сейчас-сейчас», ищет-ищет, листает-листает, однако же — не находит. На помощь приходят сначала его молодая жена Гнеся, потом Ичейже, Зямин женатый сын, потом сам Зяма. Ищут-рыщут, но все без толку. Зато часто находят всякие мудреные загогулины. Стоимость отходов записана в графе «первый сорт», а расходы на краску занесены в расходы на гвозди… После нескольких дней таких попыток Зяма задумался… о Шикеле, о своем бедном племяннике из Погоста… Зяме стало казаться, что, когда тот вел конторские книги, на производстве было несколько больше порядка. Вот ведь, такой нюня без всяких признаков хорошего почерка, а поди ж ты…
— Да-а-а, — покачал однажды Зяма своей упрямой головой, склонившись над конторскими книгами Мейлехке, — если ты такой калека в расчетах, так на что мне твой почерок?
Этого Мейлехке Пик не вынес. Он вскочил. Задели его зеницу ока, сбросили венец с его главы, уязвили гордость его юных лет… Коль скоро здесь уже смеются над его почерком, так зачем же ему дальше гнуть спину над этими скучными расчетами и к тому же молчать? И он разразился речью: почему его заточили в Шклове как в тюрьме? Почему не отдают приданого, чтобы он мог торговать в Киеве лесом и сахаром, как его отец? Кроме того, у него же есть аттестат химика! Синьку может он изготавливать или нет? Ваксу может он делать или нет? А зеркала — это, по-вашему, что — дрянь, что ли? Так почему же его заставляют день и ночь сидеть среди этих вонючих мехов и разбираться в счетах, которые другие запутали? Чего от него хотят и что все к нему пристали? Почему он должен выслушивать разные паскудные песенки, которые шкловские нищие поют ему вслед? Нет, завтра он нанимает сани и едет в Оршу к поезду!
Тетя Михля обмерла. Гнеся всхлипнула. Дядя Зяма увидел, что запахло чем-то вроде скандала — и это всего через три месяца после дочкиной свадьбы. Он смирил свою гордыню, снял со счета в банке в Могилеве несколько сот рублей из дочкиного приданого и сунул их одаренному зятьку:
— На, Мейлехке, вот тебе деньги, посмотрим, что ты умеешь. Пусть будет синька, пусть будет вакса, пусть будут зеркала, лишь бы я видел, что ты взялся за ум. Я отдаю тебе часть сарая и весь чердак, суши свою «химию», то есть свои товары. Я тебе помогу продавать их и в Могилеве, и в Орше, и в Гомеле. Но смотри, стань человеком!
3.После такого отеческого наставления Мейлехке ожил. Конец! Избавился от этих счетов! Он поехал вместе с Зямой в Могилев и закупил там все необходимое. И начал доказывать, что знает химию и становится человеком.
В белом, как у аптекаря, балахоне и с перемазанными руками он вертится по дому и сараю. То бежит в подвал, то лезет на чердак. Сжег все медные тазы. То у него горшок треснет, то он какую-нибудь миску измажет. В ведрах Мейлехке мешал каолин с берлинской лазурью, на старых сковородках — ворвань с сажей. А в стеклянных банках — азотную кислоту с ртутью для зеркал и всем кричал, как в бане:
— Берегитесь! Берегитесь!.. Осторожно!
Однажды после такого предупреждения на шестке действительно раздалось «пуф!». Выстрелило как из пушки, и чугунная крышка от горшка улетела в дымоход. До сих пор неизвестно, куда она делась. Мейлехке обжег руку и так завопил, что весь дом сбежался. Но Бог помог, рука зажила, и Мейлехке продолжал что-то производить.
Через месяц, после ужасных стараний и трудов, в Зямином доме начали проверять произведенные товары. Но оказалось, что шарики синьки не растворяются в воде, а только оставляют синие пятна на стенках корыта и на белье и эти пятна нельзя вывести ни мылом, ни нашатырным спиртом. Вакса была тоже какая-то странная. Всего один раз намазали ею сапог, и тот сразу стал жирным и липким, как от свежего дегтя; все щетки об этот сапог истерли, а блеска все равно не добились. А зеркальца!.. Да уж, эти стеклянные дощечки, которые Мейлехке Пик замазал с одной стороны какой-то серебристой кашей, были не совсем обычными зеркалами. Поверхность у них была морщинистой, как замерзшая рябь на воде. А заглянешь в такое зеркальце и видишь: нос — на щеке, а подбородок — на лбу. Можно было поклясться, что это не обычное лицо, а Вашти[184]. Вылитая Вашти.
Зяма увидел, какой товар произвел одаренный зятек, и возмутился. Он велел Михле забрать у Мейлехке все горшки и больше не давать ему ни мисок, ни медной посуды для такого замечательного производства. А Мейлехке он предупредил, что больше денег ему не даст. Разве только найдутся дураки, которые купят то, что уже произведено.